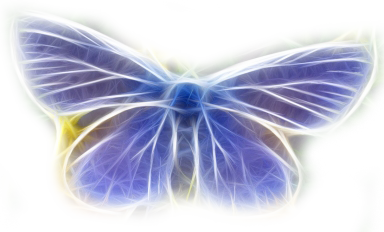— Что-то меня как-то передергивает немного… от слова «школа» в том его смысле, которое обозначает то место, где дети «учатся», ну точнее – где их насилуют и оболванивают. Я понимаю, что у вас все должно быть не так, но всё-таки…
Я стоял на полянке, окруженной разноуровневыми зданиями высотой в два-четыре этажа, и как-то не решался пройти дальше. Возникал навязчивый образ пизданутых учителей, расписания занятий, промывания мозгов, отвращения к урокам, страха наказания и прочей нечисти, которой в самом нежном возрасте переполняется каждый цивилизованный человек. И хотя дети, тусующиеся и играющие на поляне, совсем не производили грустного впечатления, мне было все равно трудно оторвать себя от привычных ассоциаций.
— Макс… ну какое еще «оболванивание»:), — Наоки посматривала на меня взглядом, в котором смешивалась смешливость и дружеское сочувствие. – Это же наша школа. Это место, откуда мы все вышли и в которое приходим, когда этого нам хочется, а нам часто хочется. Ты же приходишь ко мне в логово, когда хочется поиграть со мной в шахматы, поцеловать мои грудки?
— Это не одно и то же…
— Да нет, — она нетерпеливо перебила меня и пихнула в спину, — пошли, пошли. Это именно одно и то же. У нас нет учителей, у нас есть обитатели острова, которые приходят в школу как в место для тусовки, место, в котором можно удобно собраться большой группой. Просто когда разговариваешь с одним или двумя детьми, тебя слышат только они и больше никто. И это неэффективно. Гораздо эффективней и интересней, когда сразу десять, двадцать, пятьдесят человек могут собраться вокруг тебя и слушать, спорить, задавать вопросы тебе и друг другу. Собственно, школа, как отдельный комплекс, только для этого и нужна – для того, чтобы облегчить коммуникации групп людей. Это, по сути, большой и хорошо оборудованный конференц-зал, игровая площадка, вот и все. Ты что, совсем-совсем не понимаешь, как у нас все это работает??
— Нет… не понимаю. Как-то не доходили руки, постоянно было что-то более важное, более срочное, ну или просто… да, может быть я неосознанно избегал возможности попасть сюда, ну… всё те же ассоциации…
— Фриц не говорил мне, что всё так запущено, когда попросил сводить тебя в школу:) – Она рассмеялась и покачала головой.
— Перемена? – Я кивнул в сторону группы пацанов и девчонок, которые развалились на траве, болтая ножками, и во что-то играли.
— Э… в смысле?
Она подняла одну бровь, другую, нахмурилась, а потом до нее дошло.
— А… ты имеешь в виду «перемена», которая между занятиями?
— Ну… конечно.
— Господи, Макс… ты же совсем дремучий. Как в тебе может совмещаться такая дремучесть с такой прогрессивностью?:) Какая нахуй перемена… У нас нет перемен, и нет уроков, и нет учителей, нет экзаменов, нет оценок, нет школьной программы, нет…
— Стой, стой… — я усмехнулся и рукой прикрыл ей рот, коснувшись её пухлых губ, потом скользнул по губам кончиками пальцев… а потом убрал руку, непроизвольно бросив взгляд на детей.
Этот взгляд не остался незамеченным ею.
— Я понимаю, на самом деле, Макс. Одно дело – принципы и теория, и другое – реальность, которая немного пугает, потому что не знаешь, что от нее ожидать. У нас тут теория и практика далеко друг от друга не отходят. Наша сексуальная свобода не кончается там, где начинаются дети.
— То есть…
[… этот фрагмент запрещен цензурой, полный текст может быть доступен лет через 200…]
— У меня такое чувство, что я разговариваю с питекантропом, — не выдержала и рассмеялась она. – Или с психушником. Конечно, [… этот фрагмент запрещен цензурой, полный текст может быть доступен лет через 200…] Ты конечно не можешь принуждать их, хотя детей, выросших на свободе и в атмосфере крайнего культивирования, если не сказать «обожествления» личных свобод, в атмосфере, крайне благоприятной для личностного роста человека… таких детей изнасиловать практически невозможно.
— И я столько времени…
— Упускал эту возможность? – Снова рассмеялась она. – Теперь ты и вылезать отсюда не будешь, я думаю. И хорошо – тем большему они смогут у тебя поучиться.
— И они… [… этот фрагмент запрещен цензурой, полный текст может быть доступен лет через 200…].
— Ты выросла тут, на острове?
— Да. Я попала сюда в два года. Первый год ушел на то, чтобы как-то оттаять и привыкнуть к тому, что здесь совсем другая жизнь, другой мир, другие законы, бесконечно отличающиеся от всего того, что я видела там, откуда меня взяли. Я дичилась, обижалась и была очень настороженной. А потом это прошло само собой. И в пять лет я [… этот фрагмент запрещен цензурой, полный текст может быть доступен лет через 200…]. И это было а-ху-енно… Это было такое… яркое, пронзительное предвосхищение, такой восторг от того, что здесь так много парней, мальчиков, мужчин, девочек, девушек, женщин, и что я могу перепробовать бесчисленное множество всего-всего [… этот фрагмент запрещен цензурой, полный текст может быть доступен лет через 200…]… это было настолько ярко, настолько мощно… это делало меня открытой, искренней, счастливой, энергичной, это стало для меня мощным источником энергии и насыщенности на многие годы вперед, пока постепенно не возникли еще и другие. Лишить человека секса в детстве – это все равно, что… все равно, что ввести его в кому, а потом много лет поддерживать в нем искру жизни с помощью искусственного кровообращения, искусственного дыхания, искусственных почек и сердца и надеяться, что рано или поздно он придет в себя. Ну, некоторые приходят в себя, вот как ты например, а подавляющее большинство, конечно, нет.
— В пять лет твое тело было готово к сексу? – Почти непроизвольно вырвался у меня вопрос, и я снова почувствовал себя идиотом.
— А судьи кто, Макс?:) Готово ли тело к тому, чтобы побежать, пожрать яблоко, поднять гантели? Кто это будет решать, как не наше тело? Если человек дозрел до того, чтобы хотеть секса, то он дозрел и до того, чтобы заниматься им. Вокруг много людей, которые покажут, подскажут, проинформируют, объяснят все, что связано с вопросами безопасности. Наши дети в два года о сексе знают больше, чем среднестатистический взрослый в обычной стране – ну просто потому, что секс тут везде и повсюду, это естественная и неотъемлемая часть нашей жизни, и когда ребенок варится в некой языковой среде, он быстро научается говорить, это никого не удивляет же. И точно так же он быстро перенимает не только язык, но и «язык культуры». Обычный ребенок в три года уже изо всех сил прикрывает свою пипиську и вспыхивает от нестерпимого стыда, если его кто-то увидел голого – он уже перенял «культурный код». С нашими происходит то же самое. Они к двум-трем годам отлично знают, как играть в шахматы или кататься на велике, как приготовить себе еду и как не ебнуться в пропасть, как поступать, если у него болит живот и что делать, если порезался. И точно так же он знает, что нельзя кончать в письку девушке, если трахаешься с ней без презика, да и трахаться без презика можно только в том случае, если ты не пропустил ежегодный медосмотр. Он знает, что [… этот фрагмент запрещен цензурой, полный текст может быть доступен лет через 200…]. Наши дети все это знают еще до того, как начинают на своем опыте в точности понимать, что все это значит! И не потому, что в них это вдолбили, а потому, что это окружает их со всех сторон, они варятся в нашей культуре и впитывают её. Моему первому парню, который потрахал меня, было лет сорок или сорок пять! И хуй у него был такой же, как у тебя примерно. [… этот фрагмент запрещен цензурой, полный текст может быть доступен лет через 200…] это было охуенно, охуенно, и [… этот фрагмент запрещен цензурой, полный текст может быть доступен лет через 200…]! Любая обычная девушка имеет дикий недотрах в части такого траха, когда парень кончает в нее, и она, конечно, при любой возможности хочет это компенсировать, а как? Как это ей сделать, когда у тому моменту, когда ее мораль и обстоятельства позволяют ей трахаться, у нее уже начинаются месячные? Отсюда и бесчисленные «залёты» и все вытекающие отсюда прелести…
— Он кончал в тебя?
— Он? Почему именно он:) Много кто кончал в меня. И это пиздец как классно – смотреть в глаза, на морду кончающего в тебя парня, чувствовать всем своим телом, как он подходит к оргазму, как начинает кончать, как кончает… и когда потом носишься, сперма вытекает из письки и стекает по ляжкам, по попе… и ты чувствуешь себя мелкой живой бестией, в которой только что пульсировал хуй, и в которой непрерывно пульсирует жизнь. Для меня сперма вообще была фетишем, да это и для многих так… я вообще, как сейчас кажется, постоянно была в сперме:) Если какой-то парень тут, на острове, хочет кончить, за ним будет охотиться целая стая любого [… этот фрагмент запрещен цензурой, полный текст может быть доступен лет через 200…] пола:), потому что это все-таки не такая уж частая возможность. Ну как часто парни у нас кончают… ну раз в месяц, раз в два-три месяца, раз в две недели… а сколько девчонок и парней, которых сильно возбуждает, когда в них или на них кончают? Дофига и больше, вот…
— Данте был прав… — пробормотал я, с некоторой грустью понимая что мои исследования уж точно отложатся на неделю, потому что ничто на свете не заставит меня добровольно вылезти из этого места, где я могу натискаться, налапаться, нализаться и натрахаться с такими разными, открытыми и незабитыми [… этот фрагмент запрещен цензурой, полный текст может быть доступен лет через 200…].
— Что?..
— Данте был прав. Рай есть. Но совсем не такой, каким он его себе представлял… у вас нет преподавателей… а кто же преподает??
— Я, ты, все кто хочет, они сами друг другу.
— Но…
— Но это не все. У нас есть учебники. Это наша великая ценность и гордость. Ну-ка пошли…
Она втащила меня внутрь здания. Тут было приятно прохладно. Со стены задумчиво каскадами стекал водопад и разбивался на брызги среди больших диких кристаллов кварца. Поднявшись по лестнице на второй этаж мы попали сразу в библиотеку.
— Вот. – Она обвела рукой большой зал, по стенам и по всей площади которого стояли стеллажи с книгами. – Это основной зал. Дальше – другие. Здесь книги, которые можно читать только тут и нельзя таскать с собой в ванну, в лес, в трек, для этого есть другие в другом месте – их можно брать оттуда и хоть класть на них бутерброды, хоть гулять под дождем, если тебе нравится читать под дождем… фанатично-бережное отношение к книгам, это патология, паранойя. Книгу надо читать, а не беречь! Тем более сейчас, при современных технологиях.
— Это клево, что есть именно бумажные книги… Мне нравится.
— Большинство книг у нас только в электронном варианте, но самые клевые, самые интересные – их тысяч двадцать-тридцать – есть и на бумаге. Вот смотри…
Она подвела меня к стеллажу, на котором под табличкой «физика» расположились однообразные томики, отличающиеся только порядковым номером.
— Здесь около семисот томов. Они написаны нами, нашими людьми, и не только ими. На нас постоянно удаленно работают по контракту сотни людей в разных странах, которые продолжают дописывать все эти серии – по математике, по физике, химии, истории, микробиологии, генетике… всё-всё, я даже не знаю точно, сколько тут наук. И если ты ни хрена не понимаешь в физике, ты просто открываешь первый том и начинаешь читать. Главный принцип при создании таких учебников – они должны читаться почти так же легко, как Агата Кристи, как Майн Рид или Жюль Верн…
— Но семьсот томов, Наоки! Кто их прочтет, как…
— Макс, тебе следовало бы послушать, что я говорю и что только что сказала. Как Агата Кристи, я сказала. Как Жюль Верн, внятно артикулирую я специально для тебя:) Ты в детстве читал Жюль Верна? Джека Лондона?
— Еще как.
— Сколько книг ты обычно прочитывал за неделю?
— Иногда и по книге в день, когда было очень интересно.
— Значит семьсот томов, это два года.
— Но в реальности-то…
— В реальности конечно невозможно их читать с такой скоростью, да и незачем, но одна книга в неделю прочитывается элементарно, и так как вопросы там излагаются предельно понятно и интересно, то все откладывается в голове очень легко. Кроме того, если в первой сотне томов всё разжевано до предела, ну натурально чтобы читалось как Жюль Верн, то потом, конечно, все уплотняется, а потом сильно уплотняется, а потом очень сильно уплотняется, но так как ты уже очень глубоко все понимаешь, то легко читаешь тексты, которые с трудом с наскока поймет и профессионал. И если на каком-то этапе тебе понадобится математика, тебя отошлют к такому же курсу математики и укажут… ну на самом деле физику и математику целесообразно изучать параллельно, поэтому и учебник по физике строится с самого начала так, чтобы пробуждать интерес и к математике и стимулировать читателя таким образом, чтобы он пошел к соседнему стеллажу и положил рядом с собой еще и книжку по математике. Главное – все очень медленно, никуда не торопясь и ничего не впихивая. Главное – чтобы было интересно, чтобы читать хотелось взахлеб. Так что вот… учебники плюс люди, которые могут что-то дополнительно рассказать, которые могут просто выразить какой-то свой индивидуальный взгляд – вот и всё, что нам надо.
— И нет учебных планов и уроков??
— А кому они нахуй нужны?? – в свою очередь удивилась она. – Какие могут быть «планы», когда речь идет об интересах?
— Я с этим согласен, я-то понимаю… просто никогда не видел такого в реальности.
— В реальности этого нигде и нет. Саммерхилл есть, конечно, но разве они там могут позволить себе то, что можем позволить себе мы… во всех смыслах этого слова – в финансовом, в кадровом, в смысле свободы от ханжества и прочее и прочее. Тут целый мир, и школа органично вписывается в него, а Саммерхилл – в вечной войне с окружающими его тупицами, как берег, подмываемый прибоем… стой, иди сюда! Ксана!
Наоки поманила [… этот фрагмент запрещен цензурой, полный текст может быть доступен лет через 200…], которая высунулась в окно в противоположном конце зала и обменивалась какими-то знаками с кем-то, кто был, видимо, на поляне. Та обернулась и вприпрыжку понеслась к Наоми. Подбежав, она уткнулась в нее и обхватила своими руками, [… этот фрагмент запрещен цензурой, полный текст может быть доступен лет через 200…] игриво-влюбленно пялясь в глаза Наоки.
— Ксана, это Макс. Он друг Маши… и Клэр…
— Ты будешь у нас жить? – Ксана тут же отцепилась от Наоки и так же обхватила меня.
Я обнял ее за обнаженные плечи, едва прикасаясь к ним, но потом, чувствуя, что она не отстраняется, обнял посильнее. Взгляд Ксаны немного изменился, и из игриво щенячьей области немного переехал в задумчиво-чувственную…
— Сейчас… погоди, Макс, — Наоки отцепила меня от плеч Ксаны, улыбаясь. – Успеешь полапать девочку… Ксана… покажем?..
Ксана наклонила голову, потом в другую сторону, потом скользнула взглядом по моему телу…
— Покажем… — согласилась она, отступая на шаг.
Наоки подошла к ней и, приспустив молнию на ее ветровке, раздвинула края в стороны. Это были охуенные, припухшие девчачьи грудки. Они не торчали холмиками по центру, как это бывает, а были широкими, и это было… это было пиздец как красиво.
— А теперь давай посмотрим тут… — произнесли Наоки и расстегнула пуговицу на шортиках Ксаны. Затем она расстегнула молнию и так же неторопливо приспустила шортики – сначала немного спустив их с бедер, потом с попки, потом она немного придержала их, так что я мог видеть только верхний край розовых трусиков, а потом отпустила, и шортики упали к ногам Ксаны. Инстинктивно я проследил за ними своим взглядом, испытав всплеск нежности и возбуждения от того, как красиво смотрелись ее обнаженные лапки под валяющимися шортами, а потом снова поднял взгляд и… и охуел уже по-настоящему. Обалденно красивые, нежные и припухшие, но все-таки стройные ляжки. Розовые тончайшие трусики. И именно сюда был прикован мой взгляд и я почувствовал, что мне надо с собой что-то сделать, чтобы не кончить прямо сейчас. Это может показаться патетичным или надуманным, но это была правда – возбуждение неожиданной волной захватило меня, в животе стало очень горячо, и несмотря на то, что мой хуй был всего лишь наполовину тверд, я почувствовал, что могу сейчас кончить, если буду неосторожен. Я не замечал ни Наоки, посмеивавшуюся надо мной, я не обращал внимания на то, что Ксана высунула немного свой язычок, явно наслаждаясь произведенным эффектом – я смотрел на трусики. Точнее – на то, что было под ними, а под ними… а под ними, под тонкой нежной тканью, выпирал самый настоящий хуй — отчетливо и даже как-то дерзко:)
— Ксана – трансик. Несколько лет назад она совершенно твердо решила, что не хочет оставаться парнем, и начала пить гормоны. Она и так была больше похожа на девушку, так что это было вполне естественно. И вот теперь у нее есть клевые грудки, ее тело и мордочка абсолютно девочковые, и еще у нее есть хуй…
Наоки приспустила трусики, и хуй выскочил на свободу, оказавшись даже еще большим, чем мне это показалось сначала.
— Да он же… он же почти как мой, — вырвалось у меня непроизвольно, и девчонки рассмеялись.
— Думаю да…, — задумчиво проговорила Наоки, после чего подошла ко мне и достала уже мой хуй, по прежнему наполовину стоящий, что не мешало мне по прежнему балансировать где-то рядом с гранью оргазма. – Да, почти одинаковые, ты прав.
Она подвела меня ближе к Ксане и взяла двумя руками наши хуи так, что головки соприкасались друг с другом.
— [… этот фрагмент запрещен цензурой, полный текст может быть доступен лет через 200…] с большим хуем, Макс.
Я просто не мог ничего выговорить. Я никогда ничего подобного не видел и, по сути, даже и не мечтал увидеть, а тут я не просто «видел» — тут эта девочка, этот трансик был прямо передо мной, мой хуй касался его хуя, его нежные грудки были в полуметре от меня, и я мог её везде потрогать и… кто знает, на что еще она может согласиться. И оказалось, что преодолеть себя было не так-то просто. Откуда-то взялась неуверенность, неловкость, в голову полезли мысли типа «я же слишком старый для нее», и мне пришлось взять себя в руки и вынырнуть из этого засасывающего болота.
— Я очень хочу… всё, — проговорил я, и Ксана захихикала, и снова болото надвинулось на меня, и я снова его отодвинул. – Нет, серьезно:), я всего хочу, бессмысленно даже описывать и перечислять. Ты придешь ко мне в гости? Я живу внизу, у ручья…
— Да знаю я, где ты живешь, — улыбаясь, перебила меня Ксана, и обхватила ладошкой мой хуй. – Мне Маша о тебе рассказывала, что ты думаешь… думаешь, кто-то не знает о том, что ты – любимый её парень?
— Да, понятно… ты придешь ко мне?
— Ну, — она нарочито хитро прищурилась и осмотрела меня словно бы оценивающим взглядом. – Ладно уж… приду… ладно…
Придирчиво и деловито осмотрев мой хуй и проведя ладошкой по моему лицу, она подошла ко мне вплотную, так что я почувствовал прикосновение ее груди. Её лицо стало серьезным, и взгляд уже не был похож [… этот фрагмент запрещен цензурой, полный текст может быть доступен лет через 200…].
— Я приду, конечно. Я тоже хочу с тобой… разного…
Несколько секунд она молчала, продолжая смотреть в мои глаза, а потом отошла, натянула шортики и быстро смылась, шлепая босыми лапками по полу.
В библиотеке я завис. Я ходил от стеллажа к стеллажу, брал в руки книги и охуевал от того, какие они классные. Читая их, складывалось впечатление, что кто-то спокойно, не спеша рассказывает тебе что-то – очень подробно, с рисунками, с примерами, с интересными отступлениями. Тут было, кажется, всё, что может вообще заинтересовать человека, и если бы в детстве мне было доступно всё это… я был бы не таким глупым, как сейчас, но это даже не самое главное. Я получил бы огромное количество наслаждения от познания мира, я был бы попросту другим ребенком – более счастливым, переполненным идеями, знаниями, фантазиями и планами.
Наоки примостилась на диване у входа и ждала меня, читая что-то.
Наконец, спустя полчаса я приложил усилие и оторвал себя от книг. Захлопнув томик по мирмекологии, я подошел к Наоки и уселся рядом с ней. Интересно, что мой первоначальный ажиотаж по поводу того, что тут можно реализовать огромное количество самых возбуждающих сексуальных фантазий, немного поубавился. Нет, хотеться не стало меньше — просто лихорадочный ажиотаж улёгся утихомирился. Наверное это от того, что стало ясно, что и Ксана придет ко мне, и другие пацаны и девочки никуда не денутся, они тут, они в самом деле раскованы, они существуют, я смогу испытывать огромное количество всего приятного столько, сколько смогу переварить. И от этой мысли стало спокойно и приятно.
— Здесь клево… В детстве мне не хватало этого, пиздец как не хватало…
— [… этот фрагмент запрещен цензурой, полный текст может быть доступен лет через 200…] трансиков?:) – поддела Наоки.
— Их тоже, кстати:), хотя в моем детстве трансики не существовали даже в моем воображении… Книги. Книг таких не хватало. Только мудацкие, мертвые, тупые учебники, это же какой-то пиздец… и каждая книга, написанная живым человеком, а не трупом, была на вес золота. Эбботт «Флатландия»… Трехтомник физики Роджерса… потом этот… ты все равно не знаешь… Данин «Неизбежность странного мира», ну можно наверное перечислить десять, двадцать книг, и это все. А все остальное – мертвечина…
— У нас есть огромная коллекция и научно-популярных книг, в зале напротив. Это очень клево, совмещать наши учебники с чтением клевых научно-популярных книг, и еще живое общение. Это наши «три кита». Но еще есть четвертый кит – игры.
— Игры… в смысле…
— В смысле не только футбол, хотя и футбол тоже:) Игра – основной метод преподавания, который у нас принят. Конечно, есть и лекции… ну например если ты сейчас возьмешь компьютер и вставишь в учебный план на завтра свою лекцию по исследованию чувства тайны, то человек пятьдесят, я думаю, соберется, а может и сто, так как люди тебя еще тут плохо знают, но неплохо наслышаны… и они посидят, послушают тебя, поговорят с тобой, и это будет и взрослые, и дети, и во это и есть наш способ составления «учебного плана» — во-первых ты сам читаешь, что хочешь и когда хочешь, и во-вторых ты посещаешь любые лекции.
— То есть со стороны вы не приглашаете преподавателей?
— Конечно приглашаем, а как же. Тут на острове их обычно живет человек двадцать-тридцать единовременно – смотря сколько из наших чего хотят именно сейчас… ну например если окажется, что несколько человек хотят пройти углубленный курс по какой-то дисциплине, то мы приглашаем специалиста, и платим хорошо, так что желающих сколько угодно.
— А как же…, — я сделал руками неопределенный жест, но она поняла.
— Нет, сюда они не допускаются, конечно. На противоположной стороне острова есть специальный мелкий поселок, там они и живут, а наши туда приезжают или тоже на время переселяются, обычно переселяются, чтобы интенсивно окучивать преподавателей…
— А игры?
— А игры, это игры. В них мы играем:) И их много. Игры развивают человека сами по себе. Например, у нас есть паззлы – не только электронные на большом мониторе, но и самые обычные, вещественные – берешь, рассыпаешь их на столе и сидишь себе. Это развивает. У нас есть шахматы. У нас есть футбол. Есть игра в карточки… ну знаешь, когда выкладываешь на столе пятьдесят карточек рисунками вниз, двадцать пять пар разных рисунков, открываешь одну карточку, потом твой соперник одну, потом ты вторую, потом он, а потом ты открываешь карточку и вспоминаешь, что где-то уже такая была, и если тебе удается открыть подряд две одинаковые карточки, то они снимаются со стола, и кто первый уберет все карточки…
— Да, играл. Прикольная игра.
— Игры приятно совмещать с обучением. Например, те же карточки. Можно на них нарисовать арбузы и яблоки, а можно добавить несколько аминокислот. Пока играешь, незаметно сам для себя запоминаешь и их. Это у нас целая индустрия, я бы сказала. Совмещение игрового элемента и образовательного. Или вот «словодел» — из одного слова составляешь другие слова, используя имеющиеся в исходном слове буквы. Тот, кто зачитывает свои слова, обязан хотя бы в общих чертах объяснить значение каждого, если спросят, и это не просто тренирует эрудицию, это тренирует способность к анализу и синтезу.
— Э… это каким образом?:)
— Каким? Хорошо… объясни, что такое «кровать».
— Место, на котором люди спят.
— Я вчера спала на огромной ветке дерева. Это кровать?
— А, ну…
— Теперь ты должен рассмотреть всю совокупность объектов, которые ты называешь «кроватью», выделить их общие свойства и отделить от свойств других объектов, правильно? А это и есть работа и по анализу, и по синтезу – и выявление общего, и выявление отличий.
— Да, согласен.
— Так что с кроватью? – Хитро улыбнулась она.
В целом ее мордочка была чуть широковатая, что ли, а глазки – немного раскосые, поэтому когда её рот расплывался в улыбке, получался настоящий Чеширский Кот. Сильно захотелось её обнять – просто обнять и прижать к себе, что я и сделал. Она сначала замерла, замолчала и затихла, а потом положила руки мне на плечи, и этот бесхитростный, простой и по-детски наивный жест неожиданно вызвал во мне сильное сексуальное возбуждение. Такие странные, необычные ощущения возникали от ее тела… я попробовал описать их самому себе, и столкнулся с полной невозможностью это сделать. Мой язык, мое мышление были в принципе не готовы к тому, чтобы описывать это. Ведь язык приспосабливается постепенно. Покажи австралийскому аборигену реактивный самолет в небе, и у него просто отнимется язык – его коммуникативных навыков попросту не хватит, чтобы подобрать адекватное описание увиденному и услышанному в рамках своего языка, и даже в рамках своего синтаксиса. Ему потребуется развить свой язык не только в словарном смысле, но и в более глубоком. Придумать слово, обозначающее нечто невероятное, не так сложно, но в его жизни никогда не было ничего столь стремительного и столь оглушающего. Чтобы подобрать термин для обозначения стремительности, ему сначала придется впустить в себя сам факт существования таких скоростей у таких огромных тел, да еще в воздухе! Ему придется осознать стремительность как явление, ему надо суметь пережить это, принять это в свою систему представлений о мире, которую попутно придется сломать и как-то выстроить заново, ведь в мире, каким его видят аборигены, ничего столь стремительного попросту не может существовать, и на этом могут покоиться какие-то мифы и даже какая-то мораль, какие-то стереотипы поведения, стереотипы социальной жизни!
И сейчас мое тело было для меня таким аборигеном. Раньше оно было… сырым, что ли, инертным и почти бесчувственным. Когда ты вылез из кресла зубного врача, идешь по улице, и в этот момент твоя морда начинает оттаивать, заморозка отходит, и вдруг там, где только что ничего не было, вдруг появляются ощущения… тогда и можно испытать отголосок того, что я испытывал сейчас. Словно я отхожу от векового, изначального, неотъемлемо присущего самому роду человеческому анабиоза, и во мне самом открывается новый мир, полный глубины и оттенков. Мое тело начинает жить, и этот процесс начался… когда он начался? Когда во мне стали раскрываться веретена? Когда начал наслаиваться кристалл? Когда я стал исследовать чувство тайны и обнаруживать там новые оттенки? Наверное, верен отчасти каждый ответ.
Обнимая Наоки, я был захвачен тем, чему пока в моем языке нет названия. И это было совсем другое, чем когда я чувствовал своей грудью сосочки Ксаны, и чем когда я гладил плечи Клэр…
Клэр.
Нет, я не воспринимал все происходящее так, словно я забыл о ней, забыл о том, что сейчас, по сути, только от меня, наверное, и зависит – вернется она к нам, к себе, ко мне, или нет. Я не забыл и не мог забыть об этом, но я не хотел, чтобы это превратилось в мой «крест». Я не хотел видеть себя иисусом, выполняющим благородную миссию. Это была моя любимая девочка, и она попала в беду, и я просто хочу сделать все, что могу, и даже больше, чтобы вытащить ее оттуда, но это не значит, что я теперь должен был перед кем-то вставать в позу, делать траурное лицо и отказывать себе в удовольствиях, в радостях, во влюбленностях. Хотел ли бы я, чтобы она, будучи на моем месте, превратилась бы в мрачную монашку, скорбно лишающую себя радостей жизни? Да ни за что на свете. Это же садизм какой-то, как я могу такого для нее хотеть, для любимой-то девочки! И она не могла бы такого хотеть для меня. Ну и уж если говорить конструктивно, то нет никакого другого пути к увеличению насыщенности своей жизни, к накоплению энергии и силы, кроме как путем реализации радостных желаний. Стать мрачным – значит отрезать последний шанс на ее спасение. Это факт, независимо от того, как кто-то к этому относится.
Подержав так Наоки, прижимая её к себе, пару минут, пытаясь вслушаться в свои переживания, впитать их в себя, я затем мягко её отпустил, скользнув руками по спине, предплечьям, и во всем теле осталось гудящее, вибрирующее наслаждение, и снова до писка захотелось ласкать и трахать эту охуенную мальчико-девочку, которая сегодня будет меня совращать. И любить её. У меня почему-то не было сомнений, что именно Ксана будет проявлять себя активно в сексе, совращая меня, играясь со мной и, возможно, «насилуя» меня. Ну по крайней мере поначалу… И это так странно, любить. Я уже привык любить одну девочку. Я привык любить двух – Клэр и Машу. Привык не в том смысле, что это стало обыденностью, а в том, что это больше не вызывало ни сомнений в настоящести, подлинности такой любви, ни опасений ревности, ни прочих побочных турбулентных состояний. А вот к тому, что я могу любить еще и Наоки, и Ксану, и, видимо, еще много кого, предстояло еще привыкнуть, как и к тому, что происходило с моим пробуждающимся телом.
Мысленно я сделал запись на своих листочках:
1) любить многих
2) пробуждение тела – постижение телом мира
Подумав еще немного, я мысленно дописал еще один пункт:
3) Во мне обнаружилось немножко гнили – неловкость с Ксаной – пример того, как она вылезла наружу. Если во мне есть гниль, я хочу ее достать и вырезать, так как это и препятствие к наслоению кристалла, и препятствие к накоплению энергии, что может быть ключевым в вопросе спасения Клэр.
Вернувшись в бренный мир, я обнаружил, что стою перед Наоки, как столб, и она внимательно смотрит на меня.
— Задумался… — пояснил я, и понял, что и это ведь тоже гниль.
На хрена это было говорить? Она и так понимала, что я задумался и переживаю что-то. Значит это было оправдание. Мелочь, конечно, но опыт уже приучил меня, начиная со времен Службы, что нет ничего важнее мелочей. Не все мелочи одинаково важны, разумеется, но некоторые из них могут быть чудовищно важны. Мне нравилось вспоминать, как кто-то говорил, описывая ситуацию, сложившуюся в физике к началу двадцатого века, что в физике тех лет почти все считалось известным и понятным. Маститые ученые советовали своим ученикам переходить в химию, математику, астрономию и даже юриспруденцию – куда угодно, потому что физика была почти закончена. Было только два небольших облачка неясности на безупречно чистом голубом небосклоне. Первое облачко – вопрос о том, как совместить ньютоновскую физику с уравнениями Максвелла, грубо говоря, или как совместить закон сложения скоростей с опытом Майкельсона-Морли. Второе облачко состояло в том, что несмотря на все свои глубокие познания, ученым никак не удавалось извернуться и объяснить – почему хреновина, нагретая до тысячи градусов, светится красным светом, а при нагреве до 10 тысяч — голубым. Из первой проблемки выросла теория относительности, из второй – квантовая физика. И мир физики закрутился со страшной скоростью, не прекращая с тех пор фонтанировать самыми невероятными открытиями и технологическими прорывами.
В моих исследованиях и в моей практике мелочи тоже могли иметь, и иногда имели гигантское значение. Вскрытие какого-то гнойника, будь то остатки ревности или остатки догматизма, может совершенно неожиданно выпустить на свободу целый рой поразительных идей и новых состояний. Просто хотя бы потому, что уровень энергии повысился настолько, что этого хватило для осуществления нового прорыва. Это как в ситуации, когда повышения уровня воды в луже даже на несколько миллиметров может оказаться достаточным, чтобы вода выбралась за границы лужи, и стремительный ручеек потек бы к новым просторам…
Я снова выдернул себя из задумчивости, и Наоки рассмеялась.
— Я всё, додумал что хотел, всё:)
— Еще хочешь про кровать?
— Кровать! Конечно.
Я потянул её за собой – мне хотелось вернуться на поляну, хотелось завалиться в траве где-нибудь рядом с этими пацанами и девочками, [… этот фрагмент запрещен цензурой, полный текст может быть доступен лет через 200…]
— Кровать… это место, предназначенное для сна, представляющее собой платформу, водруженную на ножки…
— Кроватей без ножек не бывает? – Перебила она.
— Бывает… значит это… ну ладно, сдаюсь, — рассмеялся я, — сейчас лень. Понятно, что всякое определение вынуждено проводить где-то границы, и за этими границами останется некоторое количество предметов, которые на самом деле мы все равно называем кроватями, это ведь неизбежно. В целом я понял твою мысль. Это в самом деле развивает ум человека.
— Причем это происходит именно в игре, ты получаешь удовольствие, ты живешь, тебе даже в голову может не прийти сказать, что у тебя «был урок»! И у нас просто сотни разных вариантов игр такого рода, и ты можешь тоже зайти в сетку расписания и присоединиться к какой-то игре, или создать свою. Мы любим и соревновательность, у нас есть свои высшие лиги, и рейтинги и все такое, хотя это и чревато понятно чем – честолюбием, ажиотажем, болезненным азартом, паразитическими негативными эмоциями, и вытекающей из всего этого опасностью возникновения отчуждения, ревности, враждебности… Поэтому каждый, кто хочет участвовать в какой-то лиге, сначала проходит специальный курс по технике безопасности – так же, как тебе необходимо пройти спецкурс обучения, если ты хочешь заниматься дайвингом.
Я слушал её, вставлял какие-то вопросы и комментарии, но мысленно постепенно и неотвратимо утекал – даже не к ножкам и попкам [… этот фрагмент запрещен цензурой, полный текст может быть доступен лет через 200…], а к тому, с чего все началось. К проклятой серой стене, отнявшей у меня любимую девочку. Сейчас у меня появился мелкий фронт работ – я обнаружил в себе стеснительность и ханжество. Много его там было или мало, трудно сказать. Но оно было. Зная о том, что могу сейчас подойти [… этот фрагмент запрещен цензурой, полный текст может быть доступен лет через 200…] зная, что это здесь всеми воспринимается как нечто естественное, я тем не менее не делал этого, и именно из-за неловкости. Устранить эту неловкость – значило бы получить небольшое пополнение фоновой энергии. Вдруг это приведет меня к чему-то новому? Вдруг ручеек осознания прорвется к новой идее, которая натолкнет меня на что-то дальше? Откладывать это было никак невозможно, так что я в конце концов снова положил пальцы на губы Наоки, остановив её, потом снова привлек к себе, и поцеловал её пухлые губки.
— Я сейчас занят, Наоки. Я кое-что нашел, и мне надо туда сунуться. Мелочь, но… сейчас для меня важны и мелочи. Ты мне очень помогла, ну и вообще, мне с тобой очень приятно. Ты ужасно клевая девчонка.
Пока я говорил ей это, она смотрела на меня, взгляд её был серьезным, и это было приятно – прекрасный пример искренней и неиспорченной реакции человека. Ей важно, что я говорю, ей нравится слышать это от меня, и она просто стоит и просто меня слушает – без ужимок, без оправданий и вежливо-подбадривающих улыбок, без поддакиваний. И больше всего мне сейчас хотелось оказаться на её уровне и не свалиться в сентиментальную хуету, поэтому когда я сказал всё, что хотел, то просто развернулся и ушел.
Стать частью фольклора – штука обоюдоострая. Конечно, с одной стороны оно круто, а с другой всё-таки хочется быть для людей самим собой, живым человеком, со своими качествами, со своей личной историей, в то время как, будучи персонажем фольклора, ты вынужденно получаешь вторую жизнь, жизнь в представлениях людей именно как персонаж, и у этого персонажа начинается вторая жизнь, которая иногда частично, а иногда даже полностью вытесняет жизнь реальную. Примеров такого рода полно. Василий Иванович Чапаев – вполне себе историческое лицо, известное каждому русскоязычному человеку. Но попробуй найти хоть одного из них, кто знает о хотя бы одном реальном факте жизни этого человека? Не найдешь, можешь не пытаться. Настоящая его жизнь исчезла и осталась лишь в учебниках по истории. Фальшивый, фольклорный Чапаев занял место настоящего человека и полностью, фактически, уничтожил память о нем, может оно и к лучшему… Ну это крайний вариант, конечно, но возьмем например Эйнштейна, так ведь та же ситуация. Реального Эйнштейна – сложного, умнейшего человека, давно вытеснила какая-то комическая фигура, мульт, причем парадоксально, что такая судьба ожидает чаще всего именно тех, кто слишком сильно выделился из общей массы – своим талантом, или своим положением, и, выделившись, застыл в статичном виде. Чапаев застыл, потому что личности у него по сути не было. Эйнштейн застыл, потому что удалился в Принстон и сидел там двадцать или тридцать лет, как мышка, разрабатывая общую теорию относительности. А вот Черчилль не застыл, и после окончания второй мировой не только засел за свой великий шеститомник, но еще и возглавил, фактически, холодную войну против советского монстра, поэтому и в мульт он не выродился, а остался для нас человеком. Так что вывод прост – если хочешь оставаться в памяти людей реальным человеком, если хочешь, чтобы люди учились чему-то от тебя и после того, как ты сошел со сцены тем или иным образом, надо постараться не позволить мульту оттеснить тебя в сторону, надо не уступать ему дороги, садясь в кресло-качалку и начиная вышивать крестиком. Оставаться яркой личностью покуда это возможно, до последнего момента, до последнего напряжения сил – вот путь не только к тому, чтобы взять от жизни всё, что только возможно, но и чтобы дать как можно больше тем, кто будет жить и после тебя. И хотя «после меня» мне, вроде как, будет уже все равно, так как меня и не будет, но тем не менее сейчас мне приятно думать о том, что симпатичные люди смогут что-то почерпнуть у меня и тогда, когда меня уже не будет.
Смерть… смерть, это великая тайна жизни. К ней даже подступиться непонятно как, и вот сейчас меня это неожиданно коснулось самым прямым образом. Клэр не умерла, но… сильно ли ее состояние отличается от смерти? Я и не знаю. Лично для меня – не сильно, а для нее? Есть ли вообще сейчас что-то, что можно назвать «ею»?
Снова вспомнилось ужасно неприятное состояние деперсонализации, возникающее при сверхглубоких погружениях на сжатом воздухе. Что если сейчас она непрерывно находится в чем-то таком, не будучи в силах собрать себя, идентифицировать, вернуться? Это мучительное состояние… остается надеяться, что все не так хуево, и продолжать делать что-то.
Мои мысли носились туда, сюда, хаотически перебегая между вопросом о том, что такое смерть и какая она может быть для разных людей, и что есть после смерти и есть ли вообще, и как можно было бы подобраться к этой теме, а потом я возвращался мысленно к Ксане, к Наоки, и всё это происходило в то самое время, когда я, вовсе не желая того на самом деле, неотвратимо вползал в местный фольклор, расхаживая везде, куда заводили ноги, доставая свой хуй и спрашивая, нет ли желающих поиграться с ним или дать поиграться со своим, вызывая то смех, то интерес, то безразличие, и какой бы реакцией меня ни встречали, каждая вызывала во мне какие-то тягостные, болезненные позывы. Еще пару часов назад я говорил себе, что нашел «важную мелочь», но мелочь оказалась размером со слона… Просто прийти в библиотеку и продемонстрировать свой хуй… прийти в ресторан, подойти к столику, за которым жрет пара взрослых [… этот фрагмент запрещен цензурой, полный текст может быть доступен лет через 200…], узнавая, нет ли у них желания пососать его… сначала возникал самый обычный страх всеобщей ненависти, и это было понятно. Переломить то, с чем сжился за тридцать лет, совсем непросто. Но спустя час я уже довольно отчетливо понял не только рассудочно (рассудочно-то было понятно и раньше), но и на практическом опыте, что ни ненависти, ни осуждения, ни высокомерных взглядов или снисходительных улыбочек – ничего этого нет и не будет, а все равно каждый раз приходилось преодолевать себя, и каждый раз словно оставалась какая-то царапина в виде всплеска тревожности, всплеска ожидания чего-то агрессивного. Царапины эти возникали еще и потому, что их удивление я поначалу принимал за завуалированное негативное отношение, но потом, догадавшись поговорить об этом с несколькими людьми, я понял, что они именно удивлены, и не более того. Они-то живут тут, годами, десятилетиями, а некоторые и родились здесь или живут с младенческих лет, и для них норма – именно то, что они видят вокруг себя в этом уникальном социальном микроклимате, и, выезжая за пределы острова, они просто отдают себе отчет в том, что попали в своего рода зоопарк, психушку, в которой ради собственной безопасности необходимо соблюдать определенные правила – так им это должно казаться, скорее всего, так это кажется и мне, когда я оказываюсь в странах типа Пакистана или России. И у них попросту нет стимула ходить и болтать везде своим хуем, у них нет сексуальной озабоченности, для них хуй – это просто хуй. Если рядом с тобой поселится человек, которого тридцать лет заставляли жестоко голодать, то его повадки будут сильно удивлять, и даже порой вызывать смех. Да, смех, и в этом смехе нет ничего святотатственного и кощунственного. Нет никакого кощунства или жестокости или неуважения в том, что ты смеешься над смешным, даже если это смешное само по себе появилось на свет как последствие жестокого насилия. Нет ничего тупее пиетета к страданиям. Страдания необходимо устранять, вот и все. Устранять и в материальном смысле, то есть своими руками, своей головой меняя свою жизнь так, чтобы из нее исчезли источники страданий, и в смысле психическом, устраняя жалость к себе, ненависть, зависть, депрессию – все те уродливые наросты психики, которые формируются в слабом, насилуемом человеке, и которые он впоследствии идентифицирует с «собою» и начинает бережно охранять. И если я увижу, как человек тащит бутерброд в свою комнату, пряча его ото всех, и закапывает его под подушку, зыркая и оглядываясь, я не буду «беречь его чувства» — я буду смеяться, если это покажется смешным, и предложу ему прекратить эту хуету, переработать и выкинуть на помойку то, что заставляет его до сих пор вести себя как побитое и униженное животное. Вот и они смеются надо мной, который носится тут со своим хуем – даже не столько надо мной, сколько над ситуацией, и нет в этих улыбках ничего, кроме улыбок, никакого заднего обидного содержания, никаких завуалированных намеков.
В ресторане [… этот фрагмент запрещен цензурой, полный текст может быть доступен лет через 200…]. Были ли среди сидящих рядом взрослых ее родители? Хуй знает, может и были, может не были. Суть в том, что это никого не заинтересовало. Я стоял, как на электрическом стуле – вопреки здравому смыслу — просто потому, что во мне сформировался рефлекс, рефлекс самосохранения. В самом по себе этом рефлексе нет ничего плохого. Неудобно лишь то, что он работает помимо моей воли, а мне теперь было нужно сделать рефлекс умным – он должен пробуждаться, когда я покидаю остров, и он должен исчезать, когда я возвращаюсь сюда, и на самом деле, в этом нет ничего сложного – просто вопрос тренировки. Я стоял у всех на виду, [… этот фрагмент запрещен цензурой, полный текст может быть доступен лет через 200…]. И в моей памяти всплыл эпизод из моей юношеской ещё жизни, когда впервые в жизни я покинул ебаную родину и поехал в Германию, тогда еще социалистическую. Мы пришли на вокзал, чтобы сесть на поезд Берлин-Ляйпциг. Пришли, по советской привычке, заранее, ведь мало ли что… вдруг твои места будут кем-то заняты, а проводнику будет на это похуй… обычно преимущество тут имеет тот, кто сел первый. Заграница тогда пугала своей тотальной неизвестностью, своим глубинным отличием. И даже восхищая, она продолжала пугать меня, советского подростка с основательно промытыми мозгами. Мы пошли в зал ожидания, уселись на скамейке и принялись пялиться вокруг, как вдруг сидевшая рядом маленькая девочка вдруг сползла со своего стула и легла на пол! Она просто лежала на животе на полу вокзала, болтая ножками и что-то там про себя бормоча. Это был для меня шок. Но еще большим шоком было то, что ее родители, бросив на неё короткий взгляд, больше не обращали на нее никакого внимания! Можно только представить, какая паника, какие вопли начались бы, случись это с советским ребенком на советском вокзале! И я тогда смотрел на тех родителей примерно с теми же чувствами, с какими сейчас смотрю [… этот фрагмент запрещен цензурой, полный текст может быть доступен лет через 200…]
А вот Эйнштейн бы не одобрил… Ну, Чапаев так вообще просто снес бы голову шашкой,… так что прогресс есть и во внешнем мире… Эйнштейн, значит. Альберт, твою мать, Эйнштейн…
Я [… этот фрагмент запрещен цензурой, полный текст может быть доступен лет через 200…] получил еще один повод восхититься психическому здоровью местных детей. Она просто посмотрела на меня, приподняв бровь, словно спрашивая, ухожу ли я или просто хочу чего-то другого, и на ее лице не было ни разочарования, ни обиды – просто вопрос. Просто она хотела понимать, что хочу я и сопоставить это с тем, чего хочет она. В свои семь лет она относилась к свободе других обитателей острова с неменьшим вниманием, чем к своей собственной, не пытаясь манипулировать мною ни с помощью обиды, ни стервозными проявлениями, ни как-то иначе. Для нее это наше равноправие желаний в совместной игре естественно в той же мере, в какой для людей с большой земли естественно не убивать, хватать и бежать, а заработать денег и купить… ну или попросить.
— Эйнштейн, понимаешь? – глядя на нее не с самым умным выражением лица, произнес я. – Мне нужен Эйнштейн…
— Тебе нравится, как сосет Эйнштейн? – Деловито поинтересовалась она. – Я его не знаю, а кто он?
— Он это… Альберт…
— А…, — девочка рассмеялась, и до меня дошло, что она прекрасно знает, кто такой Альберт Эйнштейн, и еще до меня дошло, что мне нужно вытравить из себя снобизм по отношению к этим малолеткам. Во-первых, совершенно не исключено, что теорию относительности она понимает не хуже меня, а почему нет? Учитывая, как много внимания здесь уделяется тому, чтобы человек именно глубоко разобрался в вопросе…
— Иди сюда… — [… этот фрагмент запрещен цензурой, полный текст может быть доступен лет через 200…]. Главное, чтобы эта привычка оставалась только здесь, на острове, и не полетела вместе со мной, когда я отсюда буду улетать:)
Мне надо было поговорить с кем-то, и почему тогда не с ней? [… этот фрагмент запрещен цензурой, полный текст может быть доступен лет через 200…]
— Временные интервалы между событиями, которые происходят в одном месте движущегося объекта, — начал я, и девочка [… этот фрагмент запрещен цензурой, полный текст может быть доступен лет через 200…] изумленно воззрилась на меня. – [… этот фрагмент запрещен цензурой, полный текст может быть доступен лет через 200…] я просто так, вслух поговорю, ладно?
— Без вопросов, — отрезала она [… этот фрагмент запрещен цензурой, полный текст может быть доступен лет через 200…]
— … так вот эти интервалы времени с нашей точки зрения будут длиннее, чем с точки зрения тех, кто сидит там и движется. Это понятно. Если рассмотреть предельный случай, и объект разгонится почти до скорости света, то время в нем, с нашей точки зрения, почти совершенно остановится.
— Правильно, — неожиданно подтвердила она и снова занялась хуем.
— Но что будет, если скорость объекта будет превышать скорость света?
— Это невозможно, — авторитетно заявила девочка, [… этот фрагмент запрещен цензурой, полный текст может быть доступен лет через 200…], видимо для того, чтобы я пришел в себя и перестал нести чушь.
— Это невозможно, конечно. Но если мы подставим в Лоренцевы уравнения скорость, большую скорости света, что будет?
Я, конечно, вполне доверял рассказам Наоки, но одно дело доверять, и совсем другое дело – увидеть самому, поэтому со стороны я, наверное, напоминал дикаря из племени Мумбо-Юмбо, увидевшему золотое ситечко, когда я увидел, как девочка задумалась, и губы ее стали немного шевелиться. Черт побери, она ведь в самом деле подставляла это в формулу!
— Получится ерунда! – снова заявила она спустя несколько секунд голосом Мюллера, выговаривающего своему адъютанту. – Время будет описываться комплексным числом, а этого быть не может.
Значит, что такое комплексные числа, она тоже знала… Похоже, мне надо почаще общаться с местными детьми…
— Да, ерунда, — согласился я. – Но вдруг у этой ерунды есть какое-то объяснение, применение? Ведь когда Лобачевский придумал свои пересекающиеся параллельные прямые, это тоже называли ерундой, а потом оказалось, что ерунда эта нашла себе отличное применение в физике. Может быть, нужно просто как-то по-особенному интерпретировать это комплексное число, имеющее отношение ко времени?
По лицу девочки было видно, что смысл моих слов был для нее вполне понятен. Хотя она и не могла предложить ничего на эту тему, но смысл произносимого мною понимала. Ну, тем приятнее будет поговорить с ней, пусть даже в виде монолога, потому что ее интерес к комплексным числам на данный момент был, видимо, исчерпан, [… этот фрагмент запрещен цензурой, полный текст может быть доступен лет через 200…].
— Что представляет собою эта стена… в любом случае, ее природа тесным образом связана со временем, с какими-то эффектами, связанными со временем в том его понимании, которое от нас пока что сокрыто. Какая материальная, физическая подоплека лежит в путешествиях в глубоком воспоминании, это мне неизвестно, но какая-то лежит, и определенно мы тут имеем дело с каким-то феноменом, имеющим прямое отношение к природе времени, к тем его аспектам, о которых я сейчас ничего сказать не в состоянии. Какая-нибудь струна, представляющая собою складку в пространстве-времени? Неважно, я не физик. Важно, что время ко всему этому имеет самое непосредственное отношение… Дальше… Во сне я могу мгновенно переместиться с земли на солнце, на то он и сон. Двигаться я буду, таким образом, быстрее скорости света. Конечно, на самом деле тут нет никакого движения… ну… ну допустим, что нет тут никакого движения. Во всяком случае – никакого движения в том смысле, в каком мы понимаем движение… черт… но двигаться я, тем не менее, могу. В глубоком воспоминании, как и в осознанных сновидениях, мы… да, так очень приятно, очень клево… мы тренируемся фиксировать внимание, тренируемся воспринимать мир таким, каким мы его видим тут, и он таким и становится. Хорошо… мы создаем целостную картинку и при этом мир как бы воссоздается в своей полноте, на первый взгляд почти ничем не отличимый от мира в бодрствовании – те же эмоции, те же ощущения… поэтому мы и можем «вести себя» в глубоком воспоминании, что бы это ни означало на физическом плане. Но как и в обычном сне, как и в осознанном сновидении, в глубоком воспоминании я могу начать двигаться со скоростью, большей чем скорость света! Так это будет восприниматься в том мире, в котором собирается мое осознание. И в таком случае, время в серой стене, которая в силу принципа относительности станет объектом, который сам движется относительно меня со сверхсветовой скоростью, станет мнимой величиной! И, черт возьми, я понятия не имею, что мне это даст, но ведь есть шанс, что это что-то даст, что-то изменит, приведет к каким-то эффектам внутри глубокого воспоминания, внутри стены? К эффектам, которые могут хоть что-то изменить в этом унылом факте её принципиальной непроходимости?
[… этот фрагмент запрещен цензурой, полный текст может быть доступен лет через 200…], ускакала обратно, и сделала это очень вовремя, так как в противном случае ей пришлось бы выслушивать очередную порцию эмоциональной чепухи.
Чтобы набрать скорость выше скорости света в осознанном сновидении, нет никакой необходимости разгоняться или садиться в ракету – это же сновидение. Фактически, я могу прямо с места прыгнуть в стену с такой скоростью! Это… это могло бы объяснить, почему Клэр просто подошла к стене, завернув за угол, и исчезла. Она просто прыгнула в стену со «сверхсветовой» скоростью! Ебаный в рот, это же так очевидно! Ведь она с Тэу исследовала упругость серых стен!! И я же сам читал недавно их отчеты, как они прыгали в стену и изучали ее упругие свойства, так что идея, которая пришла в голову к Клэр, была чудовищно проста и естественна – не просто прыгнуть, как мы учились это делать в осознанных сновидениях – копируя поведение, свойственное реальному миру, а прыгнуть мгновенно, с предельной скоростью. Я не знаю, рассуждала ли она так же, как я, или эта идея возникла у нее спонтанно, да это и неважно, а важно то, что сейчас у меня не было никаких сомнений в том, что я знаю ответ на первый вопрос – как она прошла через стену. И глубоко наплевать мне сейчас и на физическую природу стены, и на то, насколько адекватны или неадекватны мои рассуждения про «сверхсветовую скорость» в глубоком воспоминании. Если даже это ничего не значащие и произвольные умопостроения, за которыми не скрывается ничего ценного, ничего, относящегося к реальной природе вещей, то и это пофиг. Главное, что я понял, что сделала Клэр! Я понял, как преодолевать ебаные стены!
Испытывая разрывающее волнение, я вскочил, засунул хуй в шорты и выбежал на улицу. Мне срочно был нужен хоть кто-нибудь – Тэу или Маша или кто угодно, кто занимается глубокими воспоминаниями. Мне хотелось рассказать им всё, поделиться охуенным открытием, и я, как гончая, помчался зачем-то в офис, потом остановился и понял, что выгляжу как полный псих. Надо успокоиться. Чуть ли не в буквальном смысле этого слова взяв себя в руки, я прикочевал к первому попавшемуся дереву и привалился к нему, удобно примостившись между вспученными, вылезшими из земли могучими, коричневыми бугристыми корнями, вспомнив, что вообще-то у меня есть такая штука, как телефон. Я, все ещё притормаживая и осаживая себя, протянул руку, расстегнул молнию на кармане и достал оттуда вожделенный продукт технической революции, двигаясь с каждой секундой всё медленнее и медленнее, так что к тому моменту, когда мой палец наконец встал на кнопку вызова Маши, я окончательно замер. В полной неподвижности я просидел так несколько минут. Время словно замерло в полном несоответствии с теорией относительности, как специальной, так и общей, и я так и сидел с пальцем, прикасающимся к кнопке, со взглядом, направленным в никуда, и с бессмысленно крутящейся в голове фразой «неинерциальные системы отсчета», которая затем превратилась в «неинтересные системы отчета», а потом и вовсе в «надо ли отчитываться». Наконец, медленно, как с чеки гранаты, я убрал с кнопки палец, закрыл телефон и сунул его обратно в карман, методично застегнув за ним молнию, словно подчеркивая кому-то окончательность решения. Всё так же медленно я встал, отряхнул от листьев и комочков земли попу, и зачем-то приложил ладонь к коре дерева, и вдруг легкое содрогание пробежало по телу, какое иногда случается при высокой температуре – тело неожиданно отозвалось на это прикосновение, и снова набежала, откуда-то из глубинных структур несформированных восприятий, приливная волна этих странных переживаний! Намного слабее, чем от людей, но тем не менее заметно, очень даже заметно, и ещё они чем-то отличались от тех, что возникали раньше. Вот это уже хорошо. Вот это уже просто замечательно… Ведь если состояния, возникающие как реакция на людей, и те, что появляются при соприкосновении с деревьями, отличаются, то это автоматически означает, что различение уже свершилось, иначе как бы я заметил разницу? А значит, это различение можно развивать, упрочнять, и можно выявлять различия уже в явном виде, описывать их, а различение состояний самым прямым путем ведёт к возможности их детального анализа, к выявлению в них элементарных составляющих, а это – к их усилению, освоению, овладению, управлению ими. К тому, что они начнут, в свою очередь, дальше влиять на мое тело, на другие мои переживания, и закрутится маховик… так что и тут появился просвет!
Я убрал ладонь и соединил руки за спиной, затем снова медленно подвел ладонь и положил её на ствол. Было немного страшно, как и всегда при обнаружении чего-то нового – вдруг ничего не будет? Вдруг этот опыт окажется единичным, неповторяемым, как бывало не раз? Бывало, да… но не в этот раз! Есть, есть снова то же самое. Неужели мое тело способно… способно на что?… как это назвать?… способно реагировать таким образом не только на людей, но и на деревья? Может и на животных? Может и на скалы и ручьи?? Охуенно, охуенно… это а-ху-енно… это необходимо исследовать, это ведь, черт возьми, новый этап в моей эволюции! Если все в самом деле так, как сейчас это представляется моему слегка окосевшему от неожиданно привалившего открытия уму, то это означает… да, именно это оно и означает — второй значительный этап в эволюции, так как первым, несомненно, было появление кристалла и связанных с этим переживаний. Тут ведь столько всего может открыться! Блять… блять-блять-блять… тут может СТОЛЬКО всего открыться… второй этап эволюции… второй.
Чем больше я произносил это, тем более четкой становилась уверенность, что так оно и есть – это второй этап эволюции. И тем интенсивнее и шире становились и восторг, и торжество, переливающиеся через край.
Снова возникло желание связаться с Эмили и напрыгнуть на неё, попросту потребовать, чтобы она притащила информатора, прямо взяла его за хуй и потребовала, чтобы он приперся сюда и помогал мне, это же будет так классно – и мне, имея такого консультанта, и ему – смотреть, как люди делают открытия, как движется эволюция человека.
— Я буду это исследовать, — вслух произнес я, и пошел медленным упругим шагом к велику, стоявшему у офиса, где я его оставил.
Здесь можно было пользоваться любым свободным общественным великом, а можно промаркировать свой специальной меткой, чтобы никто его не брал. Это удобно, если ты отрегулировал его под себя.
Пока я тихо так катился себе в сторону спуска в ущелье, в голове, практически сами собой, возникали разные идеи предстоящих экспериментов. Я совершенно хладнокровно (успевая попутно даже испытать восхищение от этого) наблюдал за их появлением и аккуратно «складировал», словно на полочку в голове, с тем, чтобы, приехав в логово, записать и еще раз не спеша обдумать, валяясь на веранде под нависающими ветками старого бука (я не компьютер имею в виду, если что…). Возможно, что такое тихое, уютное спокойствие, столь контрастирующее с первоначальным возбуждением, было во мне от того, что сейчас уже не стоял вопрос о том — чем я займусь в первую очередь в ближайшие дни – ещё до того, как приступлю ко всестороннему исследованию своего охуенного, будоражащего воображение второго эволюционного шага.