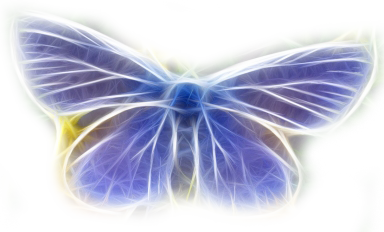Второй раз я прилетел в Школу спустя полгода. Меня сильно удивило, когда я понял, что прошло именно полгода. Ход времени довольно странно переживается, когда жизнь насыщена. У него нет линейного хода, нет линейного его восприятия. Когда жить в среднем скучновато и серо, тогда легко оценивать прошедшее время – оно может долго тянуться в моменты особенных приступов серости и может быстро пробегать, когда появляются интересы – сидишь, читаешь интересную книгу, и вдруг замечаешь, что прошло два часа. Но когда жизнь сильно насыщена – не просто наполнена нейтральными или малоприятными событиями, а именно насыщена, то есть когда испытываешь яркое удовольствие от наполненности жизни интересными событиями и переживаниями, тогда ход времени странным образом меняется и становится непохожим ни на что из того, что было испытано прежде.
Работа по преобразованию Службы оказалась довольно непростой, хотя и очень интересной. Для начала мне пришлось выдержать могучий прыжок пантеры, с которым Джулия набросилась на меня, когда я вошел в зал, в котором собралось всё руководство. Я думаю, она вполне и потрахала бы меня там прямо на столе… Оказалось, что я и в самом деле не знал и половины людей, которые формально входили в руководство. Было довольно странно входить в зал заседаний в роли хозяина организации, истинного размера и функций которой я себе даже не особенно хорошо и представлял, тем более, что формально на данный момент Альберт оставался всемогущим директором, и моё назначение вместо него пока что существовало на уровне циркулировавших слухов. Вообще само событие было вдвойне значимым для всех, кто провёл годы и десятилетия, работая здесь: во-первых, это была всего лишь вторая за всю историю смена директора, а во-вторых, это была не просто техническая замена – кроме прочего она влекла за собой, или, правильнее сказать, была вызвана тем, что всей организации необходимо было пройти глубочайшую реорганизацию, вплоть до смены не только методов, но и целей. Понятно, что это вызывало некоторую обеспокоенность у тех, кто столько лет работал в Службе. Я не могу сказать «столько лет отдал Службе», поскольку «отдача» себя здесь и не приветствовалась и даже была невозможной. Всякий сотрудник прежде всего был личностью, не зацикленной на работе, как мать на дитяте. Более того – быть личностью, хорошо интегрированной в социальную жизнь, это в общем-то и было способом работы в Службе.
Обрисовав вкратце причины, по которым Служба более не могла существовать в прежнем виде, я попросил секретаря составить некий меморандум на эту тему, который был бы доведен до сведения каждого сотрудника. Описать же новые задачи, которые, на мой взгляд, должны встать перед Службой, оказалось значительно труднее – прежде всего потому, что пока что я сам понимал их весьма расплывчато. У меня было пока что слишком мало опыта, слишком мало знаний, чтобы более или менее четко расставить приоритеты и указать цели, и я ясно понимал, что все это чувствуют. В какой-то момент мне показалось, что Альберт с самого начала дал мне слово именно для того, чтобы все убедились, насколько я бестолковый претендент и насколько безосновательны мои притязания.
А есть ли у меня в самом деле притязания? Вообще-то это не я рвался на эту должность, и сама эта идея исходила от Эмили, которая давно уже тут не работает, и от Фрица, который к Службе вообще отношения не имеет. В этот момент Фриц и его Школа показались мне очень далекими, почти нереальными, но стоило мне вспомнить, что сейчас там в качестве главного претендента на руководство рассматривается Маша, как это отдаленность перестала быть таковой. Хотя… сколько еще лет пройдет, прежде чем Маша в самом деле сможет участвовать в руководстве Школы, и уж тем более – прежде чем она полностью возьмет руководство на себя…
— Я пока что не понимаю, Альберт… что происходит? – Обратилась к нему женщина лет шестидесяти, воспользовавшись паузой в моей речи, и интонация её отнюдь не обещала добродушия. У неё было несколько крупноватое лицо с умными глазами, и в целом она выглядела даже скорее добродушно и располагающе к себе, но сквозь это добродушие проблескивал металл.
— Этот молодой человек чего-то от нас хочет? – продолжала она. – Кажется, он аналитик? Почему он ведет себя так странно? Альберт, пожалуйста, поясни нам, — она картинно обвела рукой аудиторию, — зачем всё это?
Сидящий по правую руку от Альберта Роб стал как-то нервно постукивать пальцами левой руки по столу, правой при этом подперев голову и с явно деланым безразличием скользя взглядом поверх голов. Слишком уж явное безразличие… понятно, что его очень даже устраивает и то, что эта женщина взяла разговор в свои руки, и то, как именно она решила поставить вопрос.
— Эльза, я бы сначала хотел, чтобы Крис рассказал…
— Ну он уже рассказал, Альберт! – Возмутилась она. – Я совсем не против того, чтобы юные проявляли инициативу, но всё-таки в этом должен быть какой-то конструктив, здравое зерно.
Это меня несколько подзадорило.
Лицо Роба прямо-таки просветлело. Я взглянул на Джулию, ожидая увидеть на её лице возмущение, но она была неожиданно спокойна, просто-таки безмятежна. Интересно… Алекс тоже хранил молчание с олимпийским спокойствием. Я поискал взглядом Олафа – еще одного из тех, кого я знал. Он приткнулся где-то в углу, и похоже скучал.
Установилось молчание.
— Хотелось бы ясности, Крис, — обратился ко мне полноватый и, конечно же, тоже вполне дружелюбный мужчина, тоже в возрасте под шестьдесят, и тут я неожиданно остро почувствовал, что я тут почти вдвое моложе всех, кроме Джулии. Олафу было сорок с чем-то, но он явно выключился из всего этого и был почти незаметен даже физически.
— Ясности в чем?
— Как в чем? – Удивленно развел он руками, но я его перебил.
— Как тебя зовут, — тоже упражняясь в добродушии, спросил я.
— Пит.
— Пит, твое желание ясности вполне понятно, и желание Эльзы заниматься конструктивной деятельностью тоже не вызывает удивления, но вот что меня удивляет… — я напомнил себе, что ни в коем случае нельзя сваливаться с рельсов дружеского разговора и соответствующей интонации, — почему вы требуете этого от меня?
Я широко и добродушно улыбнулся, вспомнив как это делает Ганс.
— Я, собственно, пришел вам сообщить, что практически всё, чем мы занимались до сих пор, больше не имеет никакого смысла. Вам не нравится это слушать? Отлично, не слушайте. Формально я больше не сотрудник Службы и пришел сюда по приглашению Альберта, и я могу уйти, но уйдя, я унесу с собой, по сути, всё, что у вас ещё есть. Опыт, который может придать новый смысл вашей деятельности, вдохнуть новую жизнь в Службу. В чем состоит твоя-то конструктивная позиция? – Я развернулся и в упор посмотрел на Эльзу. – Продолжать дальше собирать странные события?
— Совершенно верно, — невозмутимо парировала она. – А что, собственно, изменилось? Почему мы должны перестать это делать? Мы убедились, что вмешательство неких трудноопределяемых сил в жизнедеятельность человечества в самом деле есть, и необходимо продолжать собирать информацию, анализировать её, совершенствовать методы компьютерной обработки, входить в соприкосновение с этими силами, создавать методы блокирования их влияния.
— Прошу прощения… Альберт, Эльзе известны мои отчеты?
— Всем известны, — кивнул он.
— Ты так торжественно называешь это «мои отчеты», — улыбнулась она так, что и Ганс обзавидовался бы, — но ведь всё, что мы имеем, это какие-то маловразумительные записи человека, который несомненно пережил какие-то…, — она замялась на секунду, — глюки, и что, вот эти глюки должны теперь полностью прекратить работу нашей Службы?
— Я бы не стал называть это «глюками», — неожиданно вставил совершенно седой мужчина, сидящий рядом с ней, причем когда я всмотрелся, до меня дошло, что он не такой уж и старый, как показалось мне сначала, наверное что-то около пятидесяти, может даже сорок с чем-то.
— Но ведь это и есть просто глюки, Свен! Я не утверждаю, что молодой человек чего-то наглотался, но послушайте, что конкретно у нас есть? Он куда-то пришел, что-то там, несомненно, пережил, от чего его психика, определенно, испытала своего рода шок, и я его не осуждаю, нисколько! Если Вайс погиб, то какой же нагрузке должна была подвергнуться психика молодого парня, пусть даже и в заведомо более благоприятных условиях?
Я несколько опешил от того, что понял, что она пытается выставить меня эдаким психушником.
— Конечно, человек стало не по себе, — продолжала она уверенным тоном, — и он покинул Службу, как мы знаем, написав довольно странное, очевидно неуравновешенное письмо…
— Так, довольно. – Я встал, слегка хлопнув ладонью по столу. – Эту хуету я слушать не намерен.
Эльза изумленно приулыбнулась, приподняв левую бровь, и демонстративно обвела присутствующих взглядом, словно говоря «ну вот, я же говорила, ёбнулся мальчик».
— Я пришел сюда не в игрушки играть. Если кому-то кажется, что я слишком молод и зелен, пусть идёт на хуй. Расизм, эйджизм и прочие «измы», как мне казалось, в Службе не имеют права на существования, и меня заебало, что ты постоянно тыкаешь в меня моим возрастом, а теперь ещё и выставляешь психом.
Эльза, конечно, не была бы в руководстве Службы, если бы её можно было бы смутить такими словами. Она по-прежнему выглядела вполне уверенной в себе, только дружелюбная улыбка постепенно улетучилась с её губ. Но я и не старался смущать её, я просто перестал выбирать выражения, потому что мне стало опять как-то так приятно похуй – настолько приятно, что совершенно неожиданно я вдруг стал испытывать сильную безмятежность, которая одним прыжком достигла экстатической интенсивности, то есть стала сопровождаться ярким наслаждением, блаженством, и я зафиксировал краем сознания, просто по привычке, что в кристалле появляется новый слой.
— От меня тут что-то требуют так, словно я обязан! Как будто это я обязан и именно сейчас и в исчерпывающей форме рассказать вам о том, какие новые цели и средства должны быть у Службы! А с какой стати, собственно? Моя задница прекрасно себя чувствует, у меня-то лично есть чем заниматься, это вы знаете и по моим отчетам и по другой информации, которая так или иначе к вам доходит от Альберта, а Альберт несомненно получает её от Эмили, хотя бы в урезанном виде. А вот чем займетесь вы? Будете выслеживать странности? Очень сомневаюсь. И вы знаете почему. Потому что Альберт давно уже должен был написать соответствующий отчет и отправить его куда полагается, и знаете что в том отчете должно быть написано? Что вся работа вашей Службы больше не стоит выеденного яйца. Вы все уже безработные, собственно говоря. Эльза, надеюсь у тебя есть свечной заводик в Эльзасе? Будет чем заняться на старости лет?
Я обвел взглядом сидящих за огромным столом. Я понимал, что все они в одночасье прекратили быть влиятельными людьми во влиятельной организации, и не могли не чувствовать, что в каком-то смысле виноват в этом именно я.
— Альберт, я прав?
— В значительной степени, Крис, — не меняя своей позы и мрачного взгляда подтвердил он.
— Альберт не сможет управлять Службой, даже если она продолжит свое существование. Никто из вас не сможет – просто в силу того, что вы теперь некомпетентны. В сложившихся условиях никто из вас не обладает ни необходимыми навыками, ни даже достаточными знаниями, которые могли бы привести к тому, что Служба получит какое-то развитие.
— Альберт, ты и впрямь написал такой отчет? – Негромко спросил его Роб, перестав постукивать пальцами по столу.
— Разумеется, — отрезал тот. – А что еще я мог бы сделать?
— Посоветоваться с нами, например..
— Посоветоваться о чем, Роб?
— Ну…
— Какое к черту «ну». Всё кончено. Мы остались в прошлом веке, мы теперь динозавры и нахрен никому не нужны со всеми своими квантовыми компьютерами. Мы – паровозы в наступивший век двигателя внутреннего сгорания, и давайте признаем это честно и без неприличных выходок, — он метнул взгляд в Эльзу, и я почувствовал себя отомщенным.
— Крис, у тебя есть год, — Альберт встал. – Через год либо ты превратишь Службу в то, что будет иметь какой-то смысл и какие-то перспективы, или всё это закрывается.
Год, это совсем неплохо…
— Какие у меня полномочия?
— Директорские. Точнее – диктаторские. С этого момента ты директор. Капитан тонущего корабля, как это представляется мне, но у тебя, я знаю, другая точка зрения, вот и хорошо, вот и отстаивай её. Ты можешь провести полный пересмотр всего – сотрудников, целей и средств. Через год ты покажешь, что у тебя получилось.
— Мне можно идти? – Несколько ядовито поинтересовалась Эльза.
В первый момент во мне зашевелились какие-то демократические поползновения, захотелось сыграть в эдакого открытого парня, который выше личных обид и пристрастий, но я это пресек. Мне нужна команда людей, которые мне подходят, с которыми я смогу работать, и у меня всего год, и попросту нет времени на то, чтобы резать хвост по частям.
— Да, Эльза, ты тут больше не работаешь. Прощай.
— Что ж, всем спасибо, — она развела руками, встала и пошла к выходу.
— Роб, ты тоже, — глядя ему в глаза произнес я.
— Разумеется, — кивнул он и тоже встал.
— Я тоже, пожалуй, пойду. — Еще одна женщина, которая за все время не проронила ни слова, бросила печальный взгляд на Альберта, грустно усмехнулась, и тоже встала.
Её сосед, который проявил не больше многословия, просто молча последовал за ней, не удостоив никого и взглядом.
— Мне очень жаль… — седой мужчина (как же его зовут… а, Свен) тоже приподнялся и как-то виновато улыбнулся Альберту. – Я не имею ничего против Криса, я вполне доверяю и тебе, но… ты понимаешь, Альберт, я тоже не могу остаться.
Альберт как-то криво кивнул, словно хотел одновременно выразить и согласие с его решением и сомнение в его адекватности, и Свен всё с тем же виноватым видом вышел из зала.
— Компьютеры ушли в прошлый век, не успев побыть суперсовременными, я правильно понимаю? — улыбнулся Олаф.
Мне было несколько неприятно говорить ему это, но что, в конце концов, я буду делать с квантовыми компьютерами? В том, что теперь компьютеры для работы будут нужны только в качестве пишущей машинки, виноват не я. Центром всего становится снова, как в былые времена, человек, а не компьютер.
— Значит вот с этой командой тебе всё и делать дальше, — подытожил Альберт. – Джулия… Алекс…, — он поочередно повернулся к каждому, коротко старомодно поклонившись. – Крис, я жду тебя в э… кабинете директора. Нам потребуется пара часов, чтобы в основном завершить передачу дел, и там есть кое-какие формальности… ну, вот так…
И вот сейчас, когда самолет шел на посадку мимо знакомых громадных скал, до меня особенно отчетливо дошло, что прошло целых полгода. Я, конечно, предполагал, что работа предстоит большая, но никак не мог рассчитывать, что она затянется именно на полгода. Альберт очень разумно выторговал мне именно год, видимо так и рассчитывая, что половину времени мне придется убить на чисто административную перекройку всего совсем не маленького хозяйства Службы, и еще половина останется, чтобы доказать, что мы чего-то стоим. Самое трудное заключалось в том, чтобы понять, какие люди нам могут пригодиться, а какие точно нет, ведь у меня не было ни единого формального критерия! А в условиях, когда я не мог внятно сформулировать ни целей, ни методов работы, ситуация поначалу показалась мне безнадежной.
И как ни странно, именно многострадальный квантовый компьютер оказал мне тут неоценимую помощь. Точнее, Олаф с его компьютером. Поскольку демонтаж такого дорогостоящего и чувствительного оборудования должен быть занять существенное время, в течение первых нескольких дней мы постоянно пересекались друг с другом. То решался вопрос о том, кому его передать, то – как передавать, то – как именно перед передачей очищать его память… практически каждый вопрос оказывался нетривиальным, поскольку опыта работы именно с квантовым компьютером было очень мало. Олаф проводил непрерывные консультации с изготовителями, и иногда казалось, что они и сами не очень хорошо понимают некоторые тонкие (и не очень) аспекты работы своего детища. Конечно, информация, хранящаяся в нём, не должна была никуда уйти и её необходимо было стереть прямо тут, в стенах Службы, но оказалось, что сам термин «стереть» не вполне уместен для этой квантовой штуки, и мне невольно приходилось влезать во все эти тонкости, и даже пришлось встретиться с главным конструктором – совершенно ебанутым человеком, который в области математики и кибернетики был, возможно, чистым гением, но в бытовой жизни – довольно расслабленным, и при этом накачанным похуистом и, кроме того, яростным гомосексуалистом. Сначала он зачем-то продемонстрировал мне свои мышцы на руках, потом на спине, а потом решил показать, какие у него проработанные ягодицы. Я ничего не имею против ягодиц, как накачанных, так и просто круглых, но просто такие не в моем вкусе, о чем я ему и сообщил. Он принял это к сведению и занялся своими прямыми обязанностями, которые он по большей части понимал так, что ему надо побольше говорить и поменьше делать, поскольку говорение о кубитах по крайней мере ничего не испортит.
Поскольку я не скрывал своих затруднений от старых сотрудников, то и Олаф, возясь с компьютером, часто был невольным свидетелем моих разговоров, и как-то в один прекрасный момент он подал мне совершенно нетривиальную мысль: что, если использовать именно компьютер для выявления тех, кто с высокой вероятностью мог бы быть мне полезен для работы? Идея была чрезвычайно проста – взять ту же картину распределения «странностей», которая демонстрировалась мне еще Альбертом на первой нашей встрече, и подсунуть туда вместо моего профиля профили всех других сотрудников. Разумеется, результаты будут «плохими», но ведь и их можно ранжировать.
Мы попробовали, и всё прекрасно получилось. Осталось только провести в произвольном месте границу, которая бы отсекала всех тех, кто не проходит. Проблема осталась в том, что это, возможно, пришлось бы сделать именно в произвольном месте, но я все равно был ужасно рад. Примерно сорок процентов сотрудников было отсеяно моментально лишь в силу того, что при подстановке их профиля в схему точка меняла свой цвет с оранжевого на какой-то другой. Я не стал вдаваться в детали, какому именно тэгу какой соответствует цвет, решив сразу, что рисковать жизнями сотрудников я не намерен ни при каких обстоятельствах, и поскольку будущее Службы я видел в прямом контакте людей со сплюшками и со Странниками, то это решение я принял сразу и без колебаний. Не скажу, что Джулия меня сразу в этом поддержала, поскольку оказалось, что чуть ли не все её наиболее близкие сотрудники вылетели из программы, но я спросил, предпочитает она расстаться с ними путем увольнения или путем похорон, и она предсказуемо выбрала первое.
Вообще удивительно, как часто рассудок даже умного человека может забуксовать в примитивных вопросах. Я уже привык к этому и никогда не судил о людях по тому, проявляют они себя как умные или глупые в каком-то вопросе. Чтобы сделать вывод об уме человека, иногда необходимо посмотреть на его поведение в нескольких разных ситуациях. Вот если бы я выносил своё суждение о главном конструкторе в тот момент, когда он пытался стащить с себя трусы, даже немного дрожа от нервного и сексуального перевозбуждения, разве признал бы я его умнейшим человеком? Под влиянием даже небольшого стресса люди часто тупеют. Некоторые – обратимо…
Дальше было сложнее. Где провести границу в яркости оранжевой точки? Тут не было вообще никаких ориентиров, но помощь снова пришла с неожиданный стороны. В этот раз помог генеральный конструктор со своей попой. Вспомнив о нём и подумав о том, как стресс влияет на людей, до меня дошло, что психика разных людей устойчива в разной степени. Поэтому в профили оставшихся сотрудников мы искусственно ввели подверженность психозам и фобиям, сделав их всех психопатами, но ведь каждый из них станет психопатом по-своему, в зависимости от других свойств личности.
И в самом деле, «став психопатами», примерно пятая часть сотрудников сохранила оранжевую светящуюся точку, а остальные – нет. Поскольку всякое взаимодействие со Странниками неизбежно приводило к стрессу, то крайне важно было оставить только тех, кто и в этих условиях останется адекватен. Из оставшихся я забраковал тех, чья яркость уменьшилась более чем в два раза, исходя из того соображения, что если в результате стресса человек настолько сильно уменьшит свою адекватность, то это делает вероятным наступление «штопора» — усиление стресса.
Подведя итог мы обнаружили, что из первоначального состава сотрудников я готов оставить на работе лишь два процента от их числа, и если Джулия продолжала выражать некий скепсис или даже уныние от этого факта, то я, наоборот, повеселел. Во-первых, я избавился от заведомо безнадежной процедуры собеседования с несколькими тысячами людей, да еще в условиях, когда я точно не понимаю, чего хочу, а во-вторых и в целом работа с небольшой командой в несколько десятков человек была мне гораздо приятнее, давая возможность по-настоящему хорошо узнать особенности каждого.
Конечно, я в течение нескольких дней провел собеседование с каждым, поскольку компьютер-компьютером, но все-таки мне предстояло с каждым из них тесно работать, передавать им свои навыки, выслушивать их отчеты и при этом понимать их, и я прекрасно понимал, что я не должен оставлять тут людей, с которыми у меня скорее всего не наладился бы личный контакт. В итоге еще несколько сотрудников ушли в отставку, и нас осталось глупо-круглое число – пятьдесят. Я и сам не любил круглые числа и допускал, что и со стороны могло бы показаться, что я не провел тщательную селекцию, а тупо сказал себе «пятьдесят» и всё, ну и плевать.
Ещё я гнал от себя беспокоящую мысль о том, не будет ли оставшаяся команда признана недееспособной именно в силу того, что из примерно трех тысяч человек осталось пятьдесят? Можно себе представить, с каким лицом будут люди типа Эльзы рассказывать заинтересованным лицам о том, как какой-то молокосос-тюфяк разогнал ценнейшую команду уникальных людей… Причем я ведь согласен, люди уникальные, просто для целей Службы они уже не подходили, и что я тут мог изменить?
— Идиот я, идиот…, — жаловался я Джулии, — ведь мог бы быть таким большим начальником, имея под своим началом три тысячи людей! Генерал! А теперь я кто? Командир взвода… стыдно…
Я знал, что Фрица сейчас нет на месте, и сразу попросил отвезти меня в «ущелье». Та пропасть, на краю которой были размещены виллы, внизу представляла собой живописнейшую картину. В прошлый приезд я лишь мельком успел заглянуть туда – Алекс позволил мне погулять там буквально полчаса, после чего утащил на самолет, и мы вылетели в центральный офис Службы. Сейчас у меня будет возможность поторчать там более плотно – мне надо было собраться с мыслями и продумать план работ. Предварительно я выделил себе на это месяц. И еще надо было разобраться с Эмили, Клэр и Гансом – в какой степени они хотели бы участвовать в работе обновленной Службы.
Тут были некоторые сложности, связанные с тем, что Клэр, совершенно неожиданно для меня, сильно заинтересовалась перспективой Маши возглавить Школу, и они вдвоем там что-то делали, а я даже не мог разобраться – чем именно они заняты, поскольку сам по уши увяз в различных административных вопросах, связанных с кардинальной переделкой Службы. Ганс и Эмили куда-то провалились, и я отчасти был этому рад, потому что общение с ними точно выбило бы меня из колеи фанатика-администратора, а эта работа должна была быть сделана, если я хотел сохранить шансы на то, чтобы эта команда продолжила работать.
Я знал, что Клэр и Маша все полгода провели тут, в Школе, но по сути это всё, что я о них знал. Иногда я задавался вопросом – почему так получается, что мы так резко разделились друг с другом, и даже не переписываемся, и мне казалось, что я теряю многое от того, что всякое общение между нами прекратилось так надолго, но каждый раз, когда я открывал почту, чтобы что-то им написать, то обнаруживал, что написать нечего. Я был по уши в своих делах и понимал, что они точно так же по уши в делах Школы. Я отлично понимал, что Фриц сделает всё, чтобы заинтересовать Машу, и загрузит её по уши, в том числе и вопросами управления колонией – экономическими, коммунальными, и, возможно, даже политическими. Да наверняка. Такой увлекающийся человека как она будет однозначна засосана таким объемом интересных дел и общения. Фриц наверняка постепенно вводил её в круг общения с самыми разными людьми, уж конечно или незаурядными или обладающими властью, будь то власть денег или любая другая. И Маша должна себя чувствовать в этой среде как рыба в воде, имея такую неотразимую привлекательность и такой опыт, который она получила, когда ещё до меня обучалась у тех, кого выбирала. Сейчас её возможности и связи возросли неизмеримо, и я думаю, что и она, занося палец над клавиатурой, точно так же как и я понимала, что что бы она ни написала, это будет скорее всего выдавлено и искусственно. Мы оба упустили тот период, когда еще можно было посреди всей этой текучки просто написать друг другу что-нибудь простое типа «привет, морда» или «хочу твою попку», после чего продолжать какую-то незамысловатую эмоциональную переписку, пусть и не нагруженную каким-то смыслом. Мы упустили его именно потому, что жизнь наша была крайне насыщена, до упора, до последней минуты, и если даже я, будучи взрослым человеком, уже спустя две-три недели почувствовал, что довольно сильно изменился, занимаясь настолько новой деятельностью, то что уж говорить о ней! И когда я думаю о том, чтобы написать ей как любимой девочке, я понимаю, что время упущено, что это уже не та девочка, которую я знал, и она понимает это и тоже отдает себе отчет в том, что и я уже не тот, не тот самый её любимый парень, а некий Директор некой Службы, о которой Эмили по моему поручению рассказала ей. И возможно, что отчасти её настороженность ко мне, а я почти физически чувствовал её, была обусловлена тем, что теперь оказалось, что всё это время я, оказывается, скрывал от неё, пусть и по совершенно не зависящим от меня причинам, значимую часть своей жизни, и теперь неопределенность моего прошлого, наложенная на неопределенность моего настоящего, перевешивали то, что она помнила обо мне, когда мы были вместе.
В общем, по сути нам предстояло новое знакомство и новое сближение. С Клэр это всё было не так остро, но тоже было. С ней мы сначала переписывались как раз вот в таком игриво-эмоциональном стиле, но и тут что-то было немного натужное, и постепенно мы оба решили пока что переписку прекратить.
И теперь осознание того, что они совсем рядом, неожиданно скорее напугало меня, а не воодушевило. Вдруг я встречу совершенно незнакомых мне людей? Ну Клэр ещё ладно, а вот Маша… она как раз могла измениться кардинально в таком возрасте, за такое время и при таких обстоятельствах. И в итоге я, возможно малодушно, испытывая что-то тяжелое, решил не ехать сразу на Скалу, как они называли свой центральный поселок на краю обрыва, а поехал в Ущелье. С прошлого раза я помнил, что там тоже стоят какие-то домики, и прямо из машины связался с администрацией и договорился, что меня поселят именно там, поэтому мы проскочили все повороты к поселку и мой электрокар, не торопясь и бесшумно, проскользнул дальше, к тому месту, где в самом конце долины под нависающей громадой горы начинался крутой серпантин вниз.
Добравшись до самого дна, мы выехали к кромке растущего тут леса из толстенных деревьев, обрамляющих собою прозрачный ручей, прыгающий по покрытым мхом камням. Слева и справа вздымались практически отвесные скалы совершенно нереальной какой-то высоты – сверху они не казалось настолько шокирующе высокими, а отсюда, снизу… чувствуешь себя даже не в ущелье, в какой-то трещине между мирами. Сверху даже не падал, а словно неторопливо сползал водопад по гладким скалам, иногда прыгая с уровня на уровень и снова сползая. В самом низу в скале была выдолблена широкая ниша, где образовалось озерце диаметров метров двадцать, откуда и брал свое начало ручей. Насколько мне было известно, пить воду из ручья было нежелательно – прежде её надо отфильтровать от солей тяжелых металлов. Где-то на другой стороне горы были минеральные источники, воду из которых было и можно и полезно и приятно пить – на вкус она походила на нарзан. К счастью, меди на острове нет, иначе бы его расковыряли ещё до того, как сюда пришли переселенцы из Анэнэрбе…
Ниже ущелье расширялось и где-то дальше, пару километров спустя, выходило к морю, но все эти два километра вдоль течения ручья представляли собой совершенно изолированный мир со своим микроклиматом. В ширину не превышая двухсот метров, долина ручья изобиловала полянами с высокой травой, фруктовыми деревьями, дикими толстенными деревьями (захотелось покопаться в справочнике и узнать – что это за порода) и пещерками в стенах скал. Я слышал, что некоторые пещеры были вполне глубокими и разветвленными. Каждая пещера была картирована и снабжена подсветкой с чисто немецкой аккуратностью, но всё равно я предвкушал блуждание по ним. В общем, это давало своё преимущество – можно было бродить по пещерам сколько угодно, не боясь заблудиться, не опасаясь, что твой фонарик погаснет, так как почти из любой точки пещеры была видна крошечная сигнальная лампочка, указывающая на место, где ты мог найти аварийный набор. Порядок. Немцы тут, в Чили, наводят его ещё с середины XIX века… В общем, если тонко чувствовать и соблюдать меру, то и порядок и облагораживание природы только увеличивают наши возможности по наслаждению ею. Главное, чтобы это не превратилось в такое охуение, как у японцев.
Где-то здесь были и места для скалолазания, и еще где-то – горячий источник. В общем, мне тут нравилось, и мое настроение уже существенно улучшилось, когда мы свернули с узкой дороги и подъехали к мелкой двухэтажной вилле на берегу ручья. Здесь была абсолютная, ничем не тронутая тишина – только едва слышный шелест крон деревьев и почти такое же тихое журчание ручья. Тут я чувствовал себя древним римлянином, живущим где-то очень далеко от цивилизации, в своего рода Colonia Claudia Ara Agrippinensium, на берегу речки, за которой начинаются дикие территории с дикими же племенами. Моя вилла вполне подходила для отражения набегов аланов, вандалов и саксов, поскольку в ней было всё, что требовалось для длительного проживания – огромный холодильник, кухня, бассейн, сауна, две спальни и два кабинета. Снаружи была живописная валятельная полянка и, что мне сильно понравилось, натуральная качалка, где было очень мало металла, зато много дерева и камня. Единственное, чего я и опасался и ждал, так это нашествия Хлодвига в лице Маши, под энергией которой моя вилла, несомненно, пала бы так же неотвратимо, как в свое время пал и Кёльн.
Почему-то все считают, что во время уединенной жизни на природе в голову человека приходят исключительно философские и глубокомысленные идеи. Может быть у Уолдена так и было, но вряд ли потому, что это свойственно человеческой натуре в целом – скорее всего у него просто что-то было с пищеварением. С моим пищеварением всё было замечательно, и в условиях такой социальной депривации на меня как раз накатывают самые что ни на есть активные желания. Мне начинает хотеться буквально всего – учить языки, копаться в истории, качать мышцы, давать советы по постройке вилл, так что приходится взять себя в руки и навести некоторый порядок в эту свору желаний.
Прежде всего я ограничил свои потуги по строительству вилл. Я быстро «прошелся» по каждой из них и дал необходимые указания, что заняло, правда, целый день с утра до позднего вечера, но зато теперь ближайшие две недели меня беспокоить не будут.
Затем я выделил полчаса в день на иностранные языки – пока так, потом может быть увеличу. Также полчаса было выделено на физические упражнения и еще час – на разное чтение с целью получения любых других знаний – по истории, химии, географии или генетике – всё равно, что захочется. Обычно люди с помощью подобных планов пытаются заставить себя что-то делать, и это совершенно бессмысленно, поскольку интересы могут развиваться только в условиях, когда это происходит без принуждения и само-принуждения. Разумеется, запомнить таблицу умножения можно и из-под палки, и потом долго разглагольствовать на тот счет, что это пригодилось по жизни, но неизмеримо больше в конечном счете можно было бы узнать и неизмеримо большему научиться, получив при этом огромное удовольствие, если двигаться пусть и медленно поначалу, но в своё удовольствие. Мои планы были предназначены для сдерживания радостных желаний, а не для подстёгивания их. Конечно, можно и по десять часов в день учить корейский, испытывая вполне отчетливое предвкушение и удовольствие, но впоследствии не избежать реакции, когда этот корейский (вместе с другими языками заодно) откладывается на месяц-два, и при мысли о нем возникает некоторая усталость. Не знаю, почему так происходит – скорее всего это результат не совсем здоровой гиперкомпенсации, случающейся с тем, кто провел свое детство и юность в условиях насилия и самоизнасилования – хочется просто залиться своими интересами, утонуть в них, насладиться по максимуму и сверх максимума, и в результате возникают вот такие перекосы, когда одно-два желания, начиная реализовываться, усиливаются и подавляют другие. Так что я думаю, это просто вопрос времени, а пока я нашел очень удобным прибегать к таким ограничениям, причем я не считаю эти ограничения искусственными или неестественными. Такое самоограничение – не самоподавление, поскольку является результатом не всякого рода страхов или моралей, а результатом радостного же желания создать некую упорядоченность в реализации своих желаний. Было очень приятно испытывать это желание и чувствовать, что с его помощью моя жизнь становится ещё приятнее.
Я подошел к столу, вырвал из лежащего тут блокнота лист бумаги, взял ручку и написал заголовок: «Вопросы к Маше». И ниже: «1. Возникает ли желание ограничивать свои желания у тех, кто с самого рождения не знал насилия и самоизнасилования».
Было приятно водить удобной гелевой ручкой по плотной красивой бумаге, составляя четкие аккуратные строчки. Именно здесь, в Школе, я могу найти разные ответы на подобные вопросы о том, что представляет собой психика человека, который с самого раннего детства не только не подвергался насилию со стороны разного рода психопатов и фанатиков, но более того, встречал полную поддержку своих интересов. Буду составлять такой список вопросов.
Подумав пару минут, я сделал еще одну запись: «2. Как ты видишь, ». Я отнял ручку от бумаги и задумался. Если бы я сидел перед компьютером, я бы сейчас уже написал «по какой линии могла бы пройти», и стёр бы. Затем бы написал «где та граница, по которой» и тоже стёр бы – именно это сейчас я фактически уже и сделал в своей голове. Но бумага заставляет думать, прежде чем пальцы что-то напишут, и мне это состояние понравилось. Не то, чтобы теперь я хотел отказаться от компьютера – конечно, это немыслимо, но вот так иногда делать короткие записи на бумаге – это приятно. И еще возникло удовольствие от того, что тут полностью невозможны опечатки, к которым давно уже привык как к чему-то совершенно неотъемлемому. Тут вместо одной буквы другую не нажмешь:) Немного подумав, я дописал: «какова будет специфика деятельности Школы и чем она будет отличаться от деятельности Службы в обозримой перспективе? В чем мы будем идти рука об руку, а в чем сильно отличаться?»
Над этим вопросом мне и самому хотелось подумать. Я вышел на веранду, к которой дотянулся своими ветками раскидистый бук, развалился в шезлонге и стал прикидывать. Несомненно, мы должны двигаться туда, куда так стремительно увлекло меня самого. И не столько потому, что этим осуществлялась бы некая историческая преемственность, чёрт с ней, а просто потому, что нам больше и некуда двигаться, кроме как в этот образовавшийся прорыв. Итак, общение со Странниками. Это первое. Слабость этой позиции в том, что тут далеко не всё зависит от нас самих, ведь «общение» — это, как говорил известный персонаж, продукт непротивления обеих сторон. Но есть и второе. Наслоение кристалла. Это уже зависит целиком от меня, и у этого есть две стороны: первое – привлечение Странников, второе – кардинальное изменение моей собственной жизни, что имеет непреходящую ценность независимо ни от каких Странников.
Глубокие сновидения… Тут я как бы вторгаюсь в область, которой занимаются в Школе. Само по себе это, конечно, не препятствие, но всё-таки это направление лежит в стороне от первых двух, которые мне кажутся магистральными. То есть как дополнительные увлечения их можно принять, никто не мешает сотруднику Службы иметь любые свои увлечения, даже наоборот. Но в основной список занятий Службы глубокие сновидения попасть не могут. А вот для Школы это как раз, очевидно, одно из профильных направлений, так что частично я уже ответил на свой второй вопрос.
«Если вы всегда работаете, то когда же вы думаете?» — с этими словами Эрнст Резерфорд отправил в отставку своего аспиранта, который хотел произвести на него впечатление круглосуточной работой. Вот это бесконечно верно, хотя в применении ко мне это звучало бы иначе: если я все время работаю и думаю, то когда же я буду плавать в свободных переживаниях, чтобы выловить оттуда новую дебютную идею или просто нечто совершенно новое, свежее, не сводящееся к комбинации уже известного? Хотя… да нет же, Резерфорд наверняка именно это и имел в виду. Так что мне совершенно необходимо выделить ну хотя бы полчаса в день на то, чтобы вообще ничего не делать – ни думать, ни работать, ни исследовать, ни тренироваться. А ведь наверняка начнет возникать скука! Это и хуёво, кстати. Это и означает, что есть некий перекос, что-то нездоровое в психике, потому что у здорового человека скуки просто не может возникнуть в состоянии вне деятельности – просто потому, что на фоне переживания озаренных восприятий скуки не бывает. Отличный критерий, кстати…
Я вошел обратно в свой кабинет, вырвал еще один листок и, озаглавив его «свежие мысли», написал: «1. Если при прерывании какой-либо приятной деятельности (без того, чтобы немедленно заменить её другой) возникает скука, то это неопровержимо свидетельствует о том, что состояние человека хоть в целом и можно считать удовлетворительным, но в нём есть существенный изъян, который, если не предпринять меры, может привести к значительному снижению насыщенности жизни.»
Взяв листок и ручку, я вышел обратно на веранду и снова завалился на шезлонг. Кажется, что такую скуку необходимо встретить лицом к лицу, и ни в коем случае не забивать её деятельностью. Встретить лицом к лицу и преодолеть. Вот сейчас она возникает, я никуда от неё не убегаю, и она словно истончается, испаряется, а на её месте появляется живая ткань озарённого фона, живая, упругая насыщенность. Вот именно в таком состоянии и можно уже возвращаться к деятельности. В общем, это ведь напрямую относится к задаче по наслоению кристалла, ведь если я буду поддерживать себя в этом насыщенном фоновом состоянии, то и проявление ярких озаренных восприятий станет более вероятным.
Почему так приятны звуки природы, почему они никогда не надоедают? Шум листвы, шум ручья, шум ветра, шум дождя? Именно потому, что это шум, а не упорядоченные звуки? Нет, далеко не всякий шум нравится, например шум улицы скорее даже неприятен, а может быть и отвратителен – попробуй поживи рядом с автотрассой… И не только шум нравится. Звук упавшего камня приятен. Скрип дерева приятен. Крики повсюду носящихся птиц приятны не в меньшей степени, а среди них есть и вполне мелодичные. Где-то тут водится пампасская кошка, мне обещали, что я её увижу, если не буду особенно шуметь, а вот оленей пуду я уже видел, и звуки их шагов и треск веточек под их ногами и их всфыркивание – все эти звуки тоже очень приятны. Чем так принципиально эти звуки отличаются от техногенных? Чем-то видимо все же отличаются.
Для того, чтобы добиться рассудочной ясности, необходима работа интеллекта, надо размышлять – сопоставлять, вычленять, проводить границы и так далее. Надо, короче говоря, анализировать. Но чтобы получить нечто большее, нужно как раз остановить поток рассуждений и вот так валяться на шезлонге, слушая шум ручья и контролируя своё состояние так, чтобы оставаться в потоке насыщенности. При этом может возникнуть совершенно другой тип ясности, я бы назвал его «озарением». А вот в чём разница между озарением и ясностью… тут требуется снова напрячь интеллект:), потому что это уже чисто аналитическая работа. Разница хорошо чувствуется, а ухватить её рассудком как-то не выходит.
Я спустился с веранды и увидел прямо у виллы следы оленьих копыт. Они совершенно непугливы, это клево. Интересно будет научиться отличать следы оленей пуду от следов гуанако – они тоже тут есть, их сюда завезли и они тут прекрасно прижились, ещё бы…
Ясность, рассудочная ясность, возникает тогда, когда я достигаю результатов анализа – провожу границы, выделяю отличия, определяю причины и следствия, но всё это касается определенных явлений, и любая мысль, любой промежуточный шаг является умозаключением, то есть чем-то, построенным на определенных предпосылках-основаниях с помощью логики. Озарение возникает в отношении чего-то общего, это синтетический продукт, причем он не является выводом, умозаключением, а словно у тебя что-то распахивается в уме и ты видишь это непосредственно – так это переживается, по крайней мере. Более того, обычно озарение имеет такой общий характер, что оно и не может быть всесторонне обосновано. Например… что же взять за пример…
В кустах мелькнула оленья шкура и по аналогии я вспомнил Будду с его четырьмя благородными истинами – отличный пример. Например первая: «вся жизнь есть страдание». Было бы чрезвычайно трудно, да попросту невозможно сформулировать такую мысль с помощью чисто рассудочных операций, просто потому, что «вся жизнь» — необъятная совокупность понятий, но человек, который размышлял, наблюдал и делал выводы, в конечном счете, как венец своей интеллектуальной деятельности, получает вот такое озарение, охватывающее необъятное, и он просто-таки видит это, словно воспринимая весь мир одновременно и одномоментно, что всё, вообще всё в жизни человек есть страдание – даже то, к чему люди стремятся и что почитают как довольство и даже как счастье. Вторая благородная истина гласит: «есть избавление от страдания», но это уже не результат синтеза, не озарение, а просто констатация своего жизненного опыта, состоящего в том, что этому человеку посчастливилось испытать Нечто, что выходит за пределы страдания, что совершенно, категорически не связано с ним. Конечно, тут речь идёт именно об озарённых восприятиях… И вот для того, чтобы позволять себе открываться для озарений, требуется выйти из потока рассуждений. Мозг, сознание человека – самое таинственное явление в природе, это сейчас кажется совершенно ясным и несомненным. Своего рода озарение, кстати, и согласно тому, как это переживается, и согласно формальным критериям. И ведь глубина человека – не ум, не интеллект и не чувственность, а именно глубина и определяется нами через его открытость к озарениям, через ту степень, в которой вся его жизнедеятельность – мысли, чувства, надежды, фантазии и даже повадки – пропитаны этими озарениями. Просто повторить фразу за кем-то – это тебя не изменит, а вот если озарение родилось в самом тебе, это откладывает особый отпечаток, хорошо заметный тому, кто имеет такие же. Дурак, само собой, не увидит ничего…
Чувство земли очень приятно.
Я нагнулся, приложил открытую ладонь к траве, почувствовав под ней немного влажную землю. Чувствовать траву, землю под ней, высохший сучок, опавший цветок магнолии, которые тут повсюду растут вперемешку с лавром – очень приятно. Стремительный плеск в ручье – несколько здоровенных форелей словно специально, мне под настроение, промелькнули и скрылись под корягой. Какие-то мелкие птички, которых мне ещё предстоит научиться распознавать по голосу и внешнему виду. Многие ли люди испытывают это, живя на Земле? Да я сам только что полгода просидел в Сингапуре, где, в общем-то, совсем не так мало природы, особенно в парке позади «подводной лодки», в зоопарках и рядом с ними, на побережье – ну это, в общем, не проблема, но я же ни разу за все полгода этого не испытывал, ни разу! Много чего другого испытывал, а это – ни разу. Жить здесь, на Земле, не замечая её, словно её и нет, словно она – нечто вроде безликой декорации – это разве не сумасшествие?? Это разве не лишает человека чего-то принципиально важного, без чего жизнь, даже яркая и насыщенная, становится куцей и ущербной? Разве можно держать детей в бетонных стенах, окруженными асфальтом?? Это же варварство. Мне повезло – в моем детстве было очень много травы, земли, деревьев и ручьев, и я помню, с каким наслаждением я соприкасался со всем этим, хотя тогда я воспринимал это как само собою разумеющееся, да и общий фон подавления и насилия лишает детей возможности прислушиваться к своим чувствам, и лишь потом, спустя много лет, всплывают фрагменты воспоминаний, из которых ты начинаешь понимать, что и в высохшей пустыне изнасилованного детства была, оказывается, жизнь. Мы все уподоблены путешественнику, который делает фотки, чтобы потом увидеть – где же он путешествовал.
Похоже, я всё-таки уподобился Уолдену:)
Нельзя плодить и поддерживать снобизм!
Эта мысль словно пантера проскочила сквозь мой мозг, но я успел схватить её за хвост. Это надо записать в предложения для Маши, но и в Службе этому надо уделить внимание. Фактически, мы выращиваем людей новой формации, вообще новых людей. Ведь в истории никогда ничего подобного не было!
До меня только сейчас во всей своей шокирующей ясности дошла эта мысль. Никто никогда не пытался жить без негативных эмоций. Никто никогда не пытался освободить свою жизнь от догм, опираясь лишь на здравый смысл, на умственную трезвость. Никто никогда не пытался жить, непрерывно испытывая озаренные восприятия. Никто не пытался исследовать глубокие воспоминания, и никто не пытался проникнуть сквозь стены в мелких воспоминаниях, и не общался со Странниками так, чтобы исследовать это… мы делаем столько всего, что никогда не делалось, и делаем это всё сразу. А кристалл! И ни в коем случае нельзя позволить, чтобы на этом вырос снобизм, который можно уподобить тому расизму, в который так глупо вляпались нацисты. Если бы немцы, пусть даже и основываясь на примитивной и явно неадекватной теории расового превосходства, приложили бы все усилия, чтобы уничтожить расистский снобизм, то они тем самым оставили бы для себя путь к тому, чтобы вычленить и выкинуть заблуждения, оставив самое ценное – стремление к светлому будущему, к счастью. Интересно, почему они этого не сделали? Не догадались или не смогли? Надо будет спросить у Эмили или Фрица, и вообще надо познакомиться с ними, ведь тут наверняка еще десятки, если не сотни, интересных людей.
Пораженческое, инфантильно-аутистское желание держаться в изоляции в Ущелье пропало, как и не бывало, и захотелось немедленно помчаться на скалу, хватать каждого человека, который мне попадется, и жадно расспрашивать обо всём подряд – о его жизни, мечтах, о переселенцах из Анэнэрбе, о планах, обо всём, но это я ещё успею, а сейчас хотелось ухватить себя за руку, усмирить рвущийся ажиотаж и продолжать рассуждать.
Что конкретно они делают для того, чтобы человек, полагающий себя, причем вполне обоснованно, своего рода сверх-человеком, ни в коем случае не утонул в этом зловонном болоте чувства собственной важности, пренебрежения или даже презрения к тем, кто остаётся позади? Моральный аспект этого вопроса меня очень мало беспокоил, тем более, что «позади» остаются лишь те, кто и сам хочет барахтаться в говне догматизма, злости, тупости и жалости к себе. Меня больше волновало то отравляющее влияние, которое снобизм оказывает на человека. Это как фосген, синильная кислота. Это самый мощный ингибитор всех тех светлых катализаторов, которые нам доступны. И нельзя ни в коем случае позволить ему зародиться и укорениться. Зародиться…? Может быть как раз наоборот? Давать возможность детям испытать этот яд, почувствовать его действие на себе? Своего рода прививка… А может я снова по въевшейся привычке начинаю воспринимать ребенка как чистое поле для экспериментов? Если ребенок растет таким, что снобизм ему чужд, надо ли путем введения его в заблуждение, путем игры на его подвижных чувствах склонять его к тому, чтобы он встрял в ядовитую жижу снобизма, а затем вытаскивать его оттуда, полагая это полезным жизненным опытом? Я думаю, что ответа на этот вопрос не существует, и можно написать десять книг, провести сто экспериментов, но чем эти эксперименты лучше, чем медицинские эксперименты на людях? Я думаю, что необходимо придерживаться главной линии: ребенок – это человек, а не объект для манипуляций. Обманывать его, вводить в заблуждение с «благородными» целями – недопустимо. Это его жизнь, он сам разберется. Он сам несет ответственность за себя, за свои восприятия, и когда и если окажется так, что в нем проснется презрение и снобизм, то можно ему содействовать в том, чтобы он избавился от этого, можно, в меру симпатии к нему, делать для него всё, что тебе захочется, но это не значит, что мы должны теперь начать программу «пастеризации» детского сознания. И всё же… и всё же необходимо разработать очень разностороннюю и глубокую программу содействия тем людям, которые, испытывая снобизм, хотят разобраться в его воздействии и определиться с тем – надо это им или нет. Пренебрегать таким вопросом невозможно в рамках Школы или Службы, где каждый человек уже отобран, и довольно тщательно, то есть он заведомо является ценным, интересным, перспективным и симпатичным человеком, которому как раз и хочется помогать в сложной ситуации.
Захотелось сходить к океану и попялиться на китов. Тут ещё водится много котиков, но котики это не совсем то – хотелось смотреть именно на китов, которые здесь подплывают к самому берегу – в прошлый раз на обратном пути я видел их штук двадцать! Хочу поплавать среди них, хочу чувствовать рядом с собой эти громадные удивительные существа.
Через открытое окно кабинета я услышал, как вякнул скайп, и я уже не смог удержаться и не посмотреть. Остро захотелось какой-нибудь активности, и я не стал обходить коттедж, а влез в кабинет прямо через окно, по пути спугнув несколько шиншилл. Мой стол стоял прямо тут, и я, влезши в окно, прополз по нему пузом и уткнулся в комп. Напротив строчки «Маша» в сером овале красовалась единичка. Не испытывая в эту минуту никаких колебаний я ткнул мышкой и прочел «[… этот фрагмент запрещен цензурой, полный текст может быть доступен лет через 200…]. Приглашаешь нас всех?», и, так и лежа на животе и дрыгая ногами, я ответил: «Чем скорее, тем лучше, [… этот фрагмент запрещен цензурой, полный текст может быть доступен лет через 200…]».