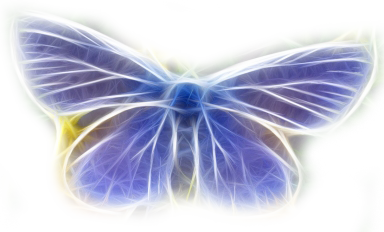Не знаю, какие ассоциации будут возникать у тебя при слове «Гокио», но у меня это прежде всего «акклиматизация» и «горная болезнь». Я давно уже не хожу так, как раньше: за день доходя от Луклы до Намче, и уже на пятый-шестой день приходя в Гокио с нарастающей головной болью, тошнотой, отвращением к горам в частности и к жизни в целом. Теперь я делаю иначе: две недели минимум я живу в Намче. Читаю книги, учу языки, качаюсь гантелями и делаю радиальные выходы-выбеги до Монка, Доле, а то и дальше по настроению. И уже после этого я прихожу в Гокио и нахожусь там в совершенно нормальном, активном состоянии, и день за днем хожу на Ренджо-пасс, к шестому озеру, на Гокио-ри, ставя рекорды и просто для удовольствия. Сидеть на одном месте здесь хочется меньше, чем в Намче – и очень красивые места, и нет интернета.
Но ассоциация с горной болезнью так и закрепилась за этим местом, подкрепляемая наблюдениями за соседями по гестхаузу. Каждые два-три дня их состав полностью меняется, но неизменными остаются их воспаленные выражения глаз, болезненно сонные лица, потерянно-шатающиеся походки и постанывания во время любого движения. Первые несколько дней еще обращаешь на них внимание, а потом перестаешь. Немцы, французы, чехи, русские, поляки, шведы… их приносит и уносит (иногда в горизонтальном положении на вертолете) вместе с их горными болезнями, гидами и портерами, шумным смехом и подавленным молчанием, откашливаниями и высмаркиваниями – несчастные, жизнь которых тут подчинена безжалостным требованиям графиков и непроходящей скуке, которую они тщетно пытаются забить одними и теми же дежурными разговорами.
Иногда тот или иной поляк или немец пытается прицепиться ко мне с разговором, видя что я пишу математические формулы или учу иероглифы, но я вежливо отпинываюсь стандартными уклончивыми фразами, и они постепенно отлипают. И ни разу за всё время ко мне не обратилась девушка или женщина. Независимо от национальностей и континентов, женщины всегда и везде знают свое подчиненное место и не смеют проявить инициативу. Только когда им уже далеко за пятьдесят, когда само слово «женщина» применительно к ним приобретает чисто статистический, скажем так, характер, предельно абстрагированный от всего психического, полового и социального, тогда они, наряду с мужчинами их возраста, приобретают непосредственность в общении, которая, впрочем, не менее неприятна, чем их выжженные пустые глаза и мертвый, как у вурдалаков, смех – одно из самых неприятных физиологических проявлений у приходящих сюда людей.
Вечером в ресторане гестхауза скапливаются все живущие тут туристы, так как в комнатах темно, холодно и неуютно. Высота в пять тысяч метров и глубочайший пофигизм строителей-непальцев дают о себе знать. А в ресторане топят сушеным навозом печку, можно сидеть на теплых, покрытых ковриками, широких лавках, прислонившись спиной к подушкам, и ужинать, болтать или просто дремать в полузабытьи. Обычно туристы приходят сюда группами по четыре-шесть-десять человек. Одиночный турист – большая редкость. В процессе рассаживания на лавках по периметру ресторана, группы вытесняют одиночек и парочек, поэтому я заранее занимаю место с краю, где никому не помешаю, но сегодня в гестхауз заселилась какая-то особенно большая группа немцев, так что им понадобилось и мое место, и меня пересадили напротив, на скамью у окна, где уже обретались несколько человек – то ли одиночек, то ли парочек.
Рядом со мной оказался какой-то то ли швед, то ли немец, который несколько раз взглянул на мои карточки с корейским языком и, казалось, с большим трудом сдерживал себя от того, чтобы задать мне хоть какой-нибудь вопрос. Впрочем, я на него не и смотрел вовсе, чтобы не спровоцировать ненароком на общение, так что мне трудно было сказать, что именно он там испытывал. Я был рад уже тому, что он оставался молчаливым. Спустя пять минут он немного наклонился в мою сторону и, протянув руку к карточкам, лежащим передо мной, ткнул в одну из них пальцем.
— Прошу прощения, но здесь явно ошибка, — произнес он неожиданно густым голосом, резко контрастировавшим со скрипучими и плоскими, лишенными обертонов голосами вокруг.
Как всё дальнейшее выглядело со стороны? Вот так выглядело: в первый момент до меня не вполне дошло то, что он сказал, и я испытал лишь раздражение от того, что все-таки придется потратить пару минут, чтобы сначала вежливо ему ответить, а затем постепенно уничтожить в утробе очередной тухлый разговор.
— Вот здесь, в слове «сыпчо», тут… должна быть гласная «ы», а не «у», ведь это «болотная трава»? в корейском морфема «сып» относится к «болоту», а никак не «суп», так что правильно будет «сыпчо».
Я проследил за его пальцем, подавив раздражение, и вдруг понял, что он был прав.
— Видимо, ты в спешке перед треком выписывал эти слова на карточки, — продолжал он, — ну и ошибся.
Изумленный, я посмотрел на него, но нет, он уж никак не мог быть корейцем. По акценту скорее немец. Следопыт, блин! Чингачгук…
— Работаешь в Корее? – спросил я его, и тут же пожалел. Знает он корейский или нет, это совершенно не повод, чтобы позволять ему втягивать себя в разговор.
— Нет. Просто учил. Для удовольствия, — ответил он и отвалился обратно, замолчав.
Довольно нетипично… ну замолчал и слава богу.
Посматривая на него время от времени боковым зрением, я заметил, что он ничего не делает, что тоже было нетипично для туристов, перманентно умирающих со скуки. Он не листал меню, не читал книгу и не пялился тупо по сторонам, прислушиваясь к разговорам. Он смотрел куда-то неопределенно перед собой, и взгляд при этом был отнюдь не тупой. Он явно о чем-то думал. Даже, я бы сказал, размышлял. Крайне нетипично. В конце концов я, испытывая противоречивые чувства, поймал себя на том, что испытываю любопытство. Это привело к странному раздвоению личности, при котором я стал испытывать раздражение сам на себя, так как мое собственное любопытство поставило под угрозу то самое одиночество и отделенность, которые я так ревностно ценил и хранил. Кроме того, инстинктивно я почувствовал некое сродство с таким человеком, который вот так, в размышлениях, проводит свое время, и мне было неприятно представлять себя со стороны, как бы находящимся теперь на одной доске с теми скучающими пустозвонами, которые только и ищут повода, чтобы прицепиться со своей болтовней. Поэтому я правоверно подавил нарастающие позывы проявить свое любопытство и вновь сосредоточился на своем корейском.
Тело приятно ныло после сегодняшнего рекордного захода на Ренджо-пасс: час тридцать пять. Конечно, шел я как беременная корова, но результат для первых дней неплохой. Когда акклиматизация закончится, результаты, конечно, станут несколько иными.
Ночью неожиданно наступил акклиматизационный кризис: заснув в десять, я проснулся в одиннадцать, и больше уже спать не мог. Состояние было отвратительным – как будто я внутренним голосом орал непрерывно какую-то абракадабру, и при этом жрал что-то противное. Невозможно было ни лежать, ни дремать, ни учить что-либо. Даже просто читать было затруднительно. Хорошо хоть не болела голова, но в остальном состояние было омерзительным. Я взял корейские карточки, но резкое отвращение возникло при одной мысли об изучении чего-либо. Наконец, я успокоился на книге Дальгрена, в которой он так ярко, безыскусно и честно описал свою сложную историю взаимодействия с культурой, от которой лично я стараюсь держаться подальше. Интересно, когда же россияне сбросят с себя имперское ярмо? С огромным нетерпением буду ждать появления книг о том, как создавалась Республика Кенигсберг, Дальневосточная Демократическая Республика и прочие и прочие. Так, каждые десять минут глядя на часы, я и промучился до утра, когда, наконец, провалился в сон, больше похожий на тревожную киноленту, хаотично разорванную и склеенную.
Когда я наконец проснулся, состояние было на удивление неплохим, а пейзаж снаружи – еще лучше. Абсолютно чистое голубое небо, яркое солнце, искрящаяся поверхность озера, и почти никого. Все уже куда-то поуходили, следуя своим планам и графикам.
Одевшись, я спустился в ресторан, который также оказался предсказуемо пустым… за одним исключением – вчерашний немец сидел в углу, скрестив на груди руки. Перед ним стоял термос с чашкой, наполовину наполненной жидкостью столь характерного ядовито-фиолетового цвета, что я без труда распознал в ней так называемый hot grape – нагретый до кипения консервированный виноградный сок – офигенная штука после длинных горных переходов. От него, правда, становятся фиолетовыми язык, и, по какой-то мистической причине, уши, но какое тут это может иметь значение?
Я загрузился в противоположный угол ресторана и вывалил перед собой наушники с плеером, корейские карточки, блокнот, в котором, по правде говоря, так и не появилось ни одной сколько-нибудь примечательной мысли. Почему-то меня это… задело, что ли, и я глубоко задумался об отсутствии глубоких мыслей в своей голове. Наверное, всему виной горная болезнь.
Тосты с яйцом успешно вывели меня из этой бесплодной задумчивости, и, запивая их чаем, я меланхолично отметил, что не мыслями едиными жив человек, что главное – переживаю ли я что-то эдакое, глубокое, что в свое время непременно выльется в том числе и в глубокие мысли. Я не стал особенно задумываться над тем, переживаю ли я что-то глубокое, предусмотрительно отметив, что дело это редкое, тем и ценное. Мысль была явно кривой и ущербной, зато уводила внимание от потенциально щекотливой темы, что меня вполне и устроило. Самокопание снова становилось навязчивым и истощающим. Точно горная болезнь.
Сунув очередной кусок тоста в рот и подняв при этом чисто автоматически взгляд, я чуть не подавился, так как уткнулся им прямо во взгляд немца. С лицом, выражающим неземную приязнь, он таращился прямо на меня, прервав свою задумчивость и мягко улыбаясь. Или не улыбаясь. Есть такие лица, которые производят впечатление по-доброму улыбающихся, даже если просто расслаблены. У немца было именно такое лицо, и я невольно и даже против воли проникся к нему симпатией несмотря на то, что понимал абсурдность этого механизма. Не знаю, удалось ли мне улыбнуться ему в ответ с куском тоста в горле, но он, во всяком случае, понял мои намерения и умиротворяюще кивнул.
— Как корейский? – спросил он спустя минуту, увидев, что я снова вцепился в свои карточки.
— Честно говоря, с трудом, — усмехнулся я. – Начиная с того, что чисто фонетически я далеко не в восторге от словосочетаний вроде «еппын намгын» или «ккын ёдырым», заканчивая многообразием этих фонем, точнее как раз… отсутствием этого, — с трудом вывернулся я из хитросплетения фраз.
— Да, это так, — кивнул он. – Так может взять другой язык?
— Я и беру другой, — теперь уже я, в свою очередь, одарил его всепоглощающей улыбкой, предвкушая его последующее неминуемое удивление.
— В смысле? – поймался на удочку он.
— Я учу разные. Сейчас хочется корейский, а так еще и японский, английский, немецкий, латынь, итальянский, и даже эстонский.
Его брови предсказуемо поднялись, и я решил его добить.
— И даже русский, — закончил я.
— Чем интересен японский, корейский, чем интересны европейские языки, это я понять могу, — осторожно-вкрадчиво произнес он, — но чем, к примеру, мог бы привлечь эстонский… — он с сомнением покачал головой и теперь уж явно улыбнулся.
— Просто интерес. В чистом виде, вне каких-либо… э… утилитарностей. Язык финно-угорской группы, интересно просто почувствовать, что ли.
— Чистый интерес… я понимаю, да. – кивнул он. – В наше время редко есть место для чистого интереса… в обоих смыслах, я бы сказал.
Если теперь он решил меня поймать на крючок любопытства, то наживка сработала, хотя я и не смог бы уверенно сказать, было ли это сделано намеренно или получилось само собой.
— В обоих смыслах? — переспросил я. – Я не очень понимаю…
— Ну видишь ли, — он откинулся на спинку и непринужденно почесал лоб, — если человек настроен прагматически, если он ставит перед собой такие цели как богатство, карьера, популярность, научные достижения, то современный мир предоставляет ему такие бескрайние возможности, что для чистого интереса просто не остается времени, ведь это время ты должен отнять у своих предметных целей, и мало того, что это отделяет тебя от целей, так еще нельзя забывать о конкуренции… А если по какой-то причине ты вне всего этого, то и здесь для чистого интереса остается крайне мало места, ведь наш мир не менее таинственен и удивителен, чем сто или пятьсот лет назад, и любой «чистый» интерес уступает интересу предметному, направленному на достижение вполне утилитарных исследовательских целей, пусть и лежащих в стороне от мэйнстрима. Прошли те годы, когда можно было потратить пятнадцать лет на вычисление числа «пи» с точностью до двадцатого знака с помощью вычерчивания многогранников.
Это было замысловато. Даже неожиданно замысловато. Справедливым было то, что он сказал, или не вполне (кажется, далеко не вполне, и чудаки, тратящие свою жизнь на подсчет запятых в Большой Советской Энциклопедии, найдутся всегда), вопрос этот интересовал меня довольно слабо, тем более что мой собственный интерес к эстонскому от этого не убавился. Но просто столкнуться с мыслью, с мышлением, сам факт наличия какого-то мышления – это было интересно, особенно на фоне набивших оскомину стеклянных глаз над жующими челюстями с их отвратительным, блять, смехом. Похоже, что тупой смех – это самое омерзительное из всех звуков… ну не считая, конечно, тех, которые издают нормальные с виду люди, когда перед ними оказывается младенец. Тут уж тянет блевать…
Под впечатлением мыслительной активности моего соседа захотелось и самому сказать что-нибудь, чтобы не выглядеть уж совсем антресолью.
— Насчет того, что наш мир сейчас предстает перед нами не менее таинственным, чем двести лет назад, я бы конечно поспорил… всё-таки наука…
— Наука? – воззрился он на меня. – Чем больше открывает наука, тем больше мы соприкасаемся с непознанным, это очевидно.
— Теоретически. Только теоретически. В реальности…
— В реальности то же самое, — перебил он меня. – Посмотри, сколько лавин нависло над привычной нам картиной мира… да что там «картиной», над самой нашей жизнью, и в любой момент они могут обрушиться и изменить нашу жизнь… драматически, невероятно, непредсказуемо, разве ты это не видишь?
— Я? – рассмеявшись, я покачал головой. – Я вообще-то не вижу, нет… а что видишь ты?
Он развел руками, словно пытаясь выразить некую необъятность, необъемлемость темы.
— Да что угодно, что угодно… ну вот, к примеру, не собираешься ли ты купить себе планету? Купить, обустроить, колонизировать?
— Ну, купить наверное можно… я слышал о таких приколах, но…
— Я говорю о покупке с целью колонизации, — повторил он. – Ты ведь рассматриваешь эту идею как чистое безумие, не так ли?
— Скорее как чистую фантазию, — кивнул я.
— Я не буду утомлять тебя, а просто набросаю некие общие идеи, тезисы… и посмотрим, что получится, хорошо?
Я развел руками, изобразив готовность внимать.
— Открыли бозон Хиггса. Разве это не влечет чего-то поразительного в технологиях! Мы все знаем, что никакая частица не может двигаться в вакууме быстрее света, верно? Верно. Но почему? Потому что частица обладает массой, массой покоя. Разгони электрон до 99,9% скорости света, а что потом? Потом ты выдохнешься. Сколько ни накачивай этот электрон энергией, почти вся она будет преобразовываться в его массу, и чем дальше, тем больше. Тупик. Казалось бы, тупик, но что мы имеем в виду, говоря, что частица «обладает массой»?
Он сделал паузу, но мне совершенно нечего было ответить.
— До открытия бозона Хиггса мир казался нам материальным в таком же абсолютном смысле, в каком во времена Ньютона люди считали абсолютным пространство и время, как арену, на которой разворачивается действо физических явлений. Мы считали, что частицам «присуща» масса. Вот присуща и все тут, природа у них такая. А бозон Хиггса все перевернул с ног на голову, уничтожив эту «присущесть». Ведь именно эта почти неуловимая частица и ответственна за то, что у других частиц есть масса! Взаимодействие электрона и бозона Хиггса и приводит к тому, что электрон «имеет» массу. Это очень легко продемонстрировать…
Он вылез из-за своего стола и оказался довольно крупным человеком. Под футболкой очень отчетливо перекатывались мышцы, и эта массивность, эта выпирающая мышечность его тела вместе с располагающим дружелюбным лицом создавали какой-то патриархальный, что ли, эффект. Доверие возникало с чуть ли не с гипнотической силой, так что попросту хотелось тряхнуть головой, чтобы сбросить это наваждение. Пробравшись между столом и скамьей, он уселся рядом, проведя рукой по столу, словно очищая его от крошек.
— Вот перед нами стол, — начал он с таким одновременно серьезным и излучающим интерес лицом, что поневоле начинаешь втягиваться. – Представь себе, что этот стол мы покрыли тончайшим слоем современного молекулярного клея. Клей невидим, его почти невозможно различить даже самыми современными приборами, но он есть. Что бы мы ни поставили на этот стол, оно немедленно входит в соприкосновение с клеем. Если мы теперь подвигаем любой стоящий на столе предмет, то обнаружим, что трение возникает тем более сильное, чем более мы давим на предмет, пытаясь сдвинуть в сторону. Мы, наш мир – это и есть стол – пространство и стоящие на нем предметы, и мы столько раз наблюдали рост силы трения при попытке надавить на предметы, что говорим, что трение «присуще» им. Понимаешь? Масса, это не нечто «присущее» предметам, а результат их взаимодействия с бозонами Хиггса, словно тончайшим клеем размазанными по пространству. И как ты думаешь, чем займутся ученые сразу после того, как существование бозонов Хиггса было ими доказано? – он сделал паузу и выжидательно посмотрел, после чего снова улыбнулся и продолжил. — Они начнут искать способы разорвать эту привычную связь.
Он демонстративно медленно протянул руку к стоящей на столе солонке, обхватив ее пальцами, медленно поднял ее и подвигал в воздухе влево-вправо.
— Теперь нет «присущей» частицам массы и инерции, а значит, прикладываемая к ним энергия не будет перекачиваться в массу. Нет больше эйнштейновской физики, ну то есть она просто не действует в этих непостижимых для ума физика XX века условиях, когда у частицы больше нет массы. Скорость может быть любой. За секунду мы можем переместиться прямо отсюда на планету в миллиардах световых лет. Я думаю, — он наконец отстал от солонки и облокотился на спину, — будут такие…
— Ракеты?
— Нет… зачем ракеты… ракеты нужны для накачивания энергией материальных, то есть массивных тел. Будут… кабинки. Вошел-вышел, и все.
— Звездные врата :)
— Да, что-то в этом роде. Конечно, от первых конструкций искусственных крыльев до сверхзвукового самолета – дистанция огромная, но… сейчас не это важно для меня. Важно то, что это будет. И технологии будут развиваться параллельно, взаимно оплодотворяя, подстегивая друг друга. Работа с «запутанными частицами» ведь тоже движется — без громких, пока что, открытий и прорывов, достойных внимания прессы для миллионов, но она двигается. И кто знает, в какую минуту настойчивые и целенаправленные усилия приведут к ожидаемо-удивительным или совсем неожиданно-фантастическим результатам? Теория струн не стоит на месте… ничто не стоит на месте. А чего стоят прорывы в исследовании рибонуклеиновых кислот и открытое вновь, через сто лет после Лысенко, эпигенетическое наследование? Сто лет смеялись над Лысенко и поддерживавшим его Сталиным, но разве хоть один специалист, работавший со Сталиным, говорил впоследствии о том, что он был не очень-то умен? Как раз наоборот, так почему же в таком стратегически важном вопросе, касающемся производства пшеницы, он занял сторону Лысенко? Потому что оба были дурачки? Ну вот оказывается и тут всё наоборот – предвосхитили они науку на сто лет вперед, но уж слишком примитивные тогда были знания и технологии, не то что сейчас… Но я ведь к чему веду… несмотря на то, что технологии невероятно ускорились в своем движении, совершенствовании, мы продолжаем жить в статическом настоящем, мы верим в стабильность ровно до той минуты, пока мир не меняется неузнаваемо, но и после этой минуты мы продолжаем верить в стабильность и неизменность, и снова воспринимаем все как обыденное, извечно-существующее. Это, я бы сказал, фундаментальный закон человеческой психики. Неприятный такой закон…
Он замолчал, и его лицо приняло снова уже знакомое задумчиво-размышляющее выражение.
— Я думаю, что причина этого отношения, — поддержал я ход его мысли, — причина вот этой обыденности восприятия чудесного состоит в том, что новые технологии, как бы быстро они ни развивались, все равно входят в нашу жизнь слишком медленно. И во многом они остаются далеки от нас. Мы все же живем здесь, вот тут, — я ткнул пальцем за окно. – Космонавты где-то летают… марсоходы где-то ползают… а мы остаемся тут, вот и все…
— Это верно, мы остаемся тут, — кивнул он. – Но какими мы остаемся?
— То есть? – не понял я.
— Мы разные. Мы можем быть разными. — Его спокойно-улыбающийся взгляд словно нес обещание того, что за его словами кроется нечто большее – обычный эффект дорисовок таких вот уверенных, располагающих к себе людей. Умозрительная философия остается, однако, бесплодной и скучной, с какой бы высокопарностью она ни преподносилась. Этому я уже был научен.
— Я люблю будущее, — как-то мечтательно произнес он.
— Звездные врата, покорение Вселенной, — несколько язвительно поддел его я.
— Нет, зачем… Насладимся вратами в свое время, но ведь будущее может и сейчас быть… как бы это сказать… ощутимым. Делая будущее, мы соприкасаемся с ним.
— Да, конечно… — меланхолично согласился я, утыкаясь в корейский. Разговор все-таки свернул на обычные банальности, и это стало скучно.
— Учить корейский – это не значит делать будущее, — словно себе под нос пробормотал немец.
Что он хотел этим сказать? Очередной камень в огород чистого интереса? Уже на полном автомате, не рассчитывая на что-то интересное, я все же возразил.
— Ну вот выучу, смогу общаться с корейцами… или, даже лучше, с кореянками… вот и будет мне кусочек созданного будущего.
— О, нет! – неожиданно оживился он. Это будущее… ну, которое с кореянкой… оно может быть и наступит, но не будет создано! Это, знаешь ли, огромная разница, уж поверь мне… — он снова добродушно улыбнулся, и меня начало немного раздражать это неуместное покровительственное отношение.
— Что значит «наступит, но не будет создано», — нахмурился я. – Игра слов какая-то… Я хочу учить, я учу, предполагая, что выучу, я получаю результат, я создаю для себя определенные возможности, разве нет?
— Конечно, разумеется, — кивнул он с таким выражением, словно готов прямо-таки умереть в бою, отстаивая мою правоту на баррикадах.
Все-таки в эмоциональной насыщенности ему не откажешь. Что ни скажет, что ни сделает, все такое насыщенное, акцентированное. Человек в самом деле… живет в настоящем, что ли, он целиком тут и явно наслаждается этим.
— Но вот представь себе человека, — продолжил он, — который взял топор, пришел в лес и начал размахивать им во все стороны. Щепки летят, деревья падают, некоторые валятся так, что под ними можно от дождя укрыться, шалашик устроить… вокруг него складывается, возникает что-то, наступает его будущее, но создается ли оно? Мы могли бы говорить о том, что человек «создает будущее», лишь если бы он выбирал те или иные варианты, а не просто плыл по течению, размахивая топором или вот… изучая корейский.
— Нет, я не понимаю… в каком смысле «выбирал»? Я и выбираю, вот учу…
— О выборе, — перебил он меня, — здесь нет и речи.
— Да как же нет речи? – уже почти с возмущением выкрикнул я. – Именно есть речь. О выборе. Я, я выбираю, учить мне корейский или эстонский или вообще не учить, что же тут неясного?
— И что будет, если ты не будешь учить корейский? – с неизменным спокойствием спросил он.
— В каком смысле?
— Ну что будет? Ты не встретишься с прекрасной кореянкой?
— А… ну почему… — его вопрос явно к чему-то вел, но мне пока не было понятно, куда он клонит. – Может встречусь, может и нет, это вопрос вероятности.
— Это и есть «создавать»? – усмехнулся он.
— Ну… — я развел руками, — так это будущее.
— И что же?
— Да то, что мы, говоря о будущем, можем оперировать лишь вероятностными категориями.
— Вот как? – изумился он. – Позволю не согласиться. Вот если я сейчас…
Он поднял руку, привлек внимание паренька, исполняющего функции официанта, и когда тот подошел, заказал ему чашку hot grape.
— Я полагаю, — продолжил он, когда паренек отошел, — мы вряд ли станем дискутировать о вероятностях, и просто скажем, что через пару минут передо мной будет стоять чашка hot grape, не так ли?
— Ну, блин, — рассмеялся я. – Это же совсем другое…
— Другое что? – вкрадчиво уточнил он.
— Ну… э…
— Да-да, вот именно. «Ну» и «э» :) , — поддел он.
Разница была видна совершенно отчетливо, но мне никак не удавалось собраться с мыслями.
— Вот! – наконец сообразил я. – Дело в количестве этапов, элементов. Конечно, вероятность того, что hot grape сейчас окажется здесь перед тобой, очень высока, почти сто процентов. Есть шанс, что в эту минуту он у них кончится, и что официант поскользнется и сломает руку и всем будет уже не до hot grape, но это все исчезающее малые вероятности, поэтому мы их не учитываем. Если же мы станем рассматривать многоэтапные процессы, то количество этих малых вероятностей будет нарастать, и мы будем все менее уверены в конечном результате. Поэтому я и говорю, что о будущем мы можем рассуждать лишь вероятностно. Значительное количество малых вероятностей суммируется, делая все более далекое будущее все более неопределенным. Согласен?
— Теоретически, это построено безупречно.
— Да нет же, это как раз не теория, а факты!
— Факты… — уклончиво повторил за мной он, — факты состоят в том, что жизнь – это самоорганизующаяся система, в которой изначально предусмотрена возможность коррекции отклонений. Кончится порошок, ничего страшного, они принесут его из другого гестхауза. Вот смотри… давай прямо сейчас изменим будущее, создадим его.
Он наклонился, снова взял в руку солонку и передвинул ее на другой конец стола.
— Будущее изменилось, не так ли? Теперь все события в мире изменились в том смысле, что солонка стоит на другом месте. Расположение детали, пусть и одной, изменилось. Будущее изменилось, верно?
Я открыл рот… и закрыл его. Схоластика какая-то.
— Верно? – настаивал он.
— Формально… конечно да. Фактически…
— Чем «формально» отличается от «фактически»?
— Да тем, что новое будущее будет в точности таким, как старое… ну то есть не старое, конечно, а то, которое наступило бы…
— Да, конечно, вот именно. Официант заново поставит солонку на место, или я, или ты, неважно. Важно то, что самоорганизующаяся система восстановит статус-кво. Точно то же самое произойдет и с твоими многочисленными вероятностями. Они не будут складываться. Они будут нивелироваться, устраняться, никаким образом не влияя на ход событий. Будущее наступит, и оно будет в точности таким же, будь солонка тут или там.
— Значит эффект бабочки… — пробормотал я, — вылетает в трубу.
— Красивая идея, — улыбнулся он. – Но совершенно ложная, так что добро пожаловать в прошлое, если это будет возможно, и поверь мне – ровным счетом ничего не случится, если ты сломаешь случайно деревце или раздавишь бабочку или завалишь мамонта на ужин.
— Наверное, даже от того, насколько сильно я вмешаюсь в жизнь тех или иных людей, тоже ничего не изменится.
— Абсолютно ничего, — категорически заявил он. – Ни в малейшей степени. Так что совершенно спокойно можешь подарить лыжи Аврааму Линкольну, чтобы ему было проще бегать в соседние деревни за книгами. Мы сейчас ведь и есть в прошлом. Относительно того будущего, которое наступит. И какие бы хаотичные поступки мы ни совершали, это ничего не изменит. Я могу поругаться с соседом, заболеть, обожраться, сходить на гору – это ничего не изменит ни в моей, ни в твоей, ни в чьей-либо жизни. Все будет течь своим путем. Твой интерес к корейскому… мой интерес к будущему… все останется неизменным.
— Просчитать будущее, тем не менее, невозможно, не так ли? – уточнил я. – Ведь существует огромное число событий, изначально недетерминированных, в которых вероятность вообще не может быть исчислена. Красивая кореянка посмотрит на меня, и в зависимости от настроения, от черт знает чего еще я ей понравлюсь или нет, и если нет, то что изменит мое знание корейского языка? А если да, то сильно ли нам помешает незнание?
— Конечно, это в значительной степени так, — согласился он. – Мы называем это «точкой сингулярности». Целая выстроенная система легко обрушивается в таких точках, обесцениваясь.
Меня несколько заинтересовало слово «мы», но сама мысль оказалась более интересной. Я отодвинул в сторону карточки с корейским и положил руки на стол.
— Я кажется понимаю. Я могу выучить корейский, изучить график прогулок девочки, её вкусы и фетиши, но в тот самый миг, когда мы встретимся, её реакция все равно будет непредсказуема, и даже если я мастер пикапа и соблазнения, я могу добиться чего-то раз или два, но что в конечном итоге сложится, все равно вытечет не из моих расчетов, а из этой самой сингулярной ямы.
— Верно, — подтвердил он. – Поэтому создание будущего возможно лишь там, где нам удается избегать сингулярностей и коллапсов.
— Под коллапсами ты имеешь в виду те эффекты нивелирования, которые делают различия… э… безразличными?
— Да.
— Избежать сингулярностей и коллапсов… — криво усмехнулся я, — да вся жизнь из них и состоит…
— Но не только из них, — заметил он.
— То есть шансы на создание будущего остаются? Ну, это из области марсоходов и космических ракет. Я могу, конечно, представить себе суперкомпьютер, но учитывая то, что все эти суперкомпьютеры не могут даже просчитывать курсы акций, то видимо наш мир, к счастью, слишком плотно набит сингулярностями и прочими штуками.
— Колебания курсов акций можно уподобить квантовой пене, слишком велика хаотичность, но законы Ньютона не перестают действовать лишь потому, что на сверхмалых масштабах вакуум кишит виртуальными частицами…
То есть, ты предлагаешь взглянуть шире, сверху? Ну… — я потянул и зевнул, — тогда мы снова попадаем в ловушку марсоходов и ракет. Какое мне дело до масштабных картин человеческого бытия? Раньше был феодализм, сейчас капитализм, через 300 лет будет еще что-то, но меня это не касается.
В этом месте разговора немец как-то очень весомо, что ли, взглянул на меня, словно оценивая, взвешивая что-то. Мне показалось, что ему и хочется продолжить, и что-то сдерживает. Захотелось его подтолкнуть, подпинать как-то, но перед моим мысленным взором предстала большая такая сингулярность, и стало ясно, что я с равным успехом могу как подтолкнуть, так и оттолкнуть его своими действиями, так что мною овладела приятная выжидательность, которой я всецело и отдался. «Вот он, результат всех этих рассуждений», — отметил я про себя, — «просто становишься созерцательным бездельником-фаталистом». Хотя нет, какой к черту фатализм… если бы было определённое желание, я бы ему и последовал. Просто в данной ситуации не нашлось достаточных стимулов для тех или иных действий, и конечно в этих обстоятельствах я предпочитаю приятную выжидательность спазматическим потугам.
Вежливо попрощавшись, немец отполз в свой угол. Яйца «в мешочек» уже давно безвозвратно остыли, но я люблю и такие. Идти сегодня никуда не хотелось, разве что прогуляться к четвертому озеру. В безветренную и солнечную погоду мне очень нравится бродить там, прыгая с камня на камень. Конечно, уже спустя несколько минут я крутил в руках необычный осколок камня. Его поверхность была покрыта темно-розовыми круглыми выпуклыми минералами, похожими на гранаты, но поверхность их была изъедена, и вокруг них были канавки, так что пятна граната выглядели как пушистые кнопки. В конце концов я нашел камень, расколов который я получил несколько красивых осколков с вкрапленными в железистую породу турмалинами, кварцами, гранатами и мусковитом. Буду пялиться на них, сидя в ресторане.
Интересно было погулять по льду, вздыбившемуся на берегу. Четвертое озеро немного выше третьего, и расположение у них одинаковое, но этой небольшой разницы было достаточно, чтобы четвертое озеро было полностью замерзшим в то время, как на третьем значительная площадь была уже свободна ото льда, и по безмятежной воде носилась пара очень красивых диких уток. Вообще тут много разной живности: вороны, разучивающие какие-то совершенно нехарактерные для них гортанно-протяжные звуки; куропатки, настолько привыкшие к людям, что могут спокойно разгуливать в метре от тебя; мелкие птицы ярко оранжевой и густой синей окраски; кто-то похожий на мангуста с рыжей шкуркой.
Вернувшись в гестхауз около двух часов дня, я обнаружил небольшие, но существенные изменения: рядом с немцем сидел какой-то неуклюжий, полноватый человек, лицо которого выдавало обеспокоенность, если не тревожность. Вполголоса он что-то сумбурно говорил, причем по-французски, так что я даже приблизительно не мог понять его слов.
Немец… ну если он был немец, иногда кивал, но ничего не произносил. Француз выглядел комично, словно сойдя с экрана старой кинокомедии: его лицо словно тщилось выглядеть значительным, чем лишь подчеркивало свою нелепость. Руки и ноги двигались как на шарнирах. Контраст был разительным и смехотворным, так что я не удержался и хихикнул. Немец поднял на меня глаза, как-то безучастно скользнул взглядом, но вдруг оживился и взмахом руки пригласил сесть рядом с собой.
— Моему приятелю не нравится будущее, — перешел он на английский, обращаясь ко мне. – Что бы ему посоветовать?
— Изменить его! – выпалил я и рассмеялся. – Знаю, знаю, что сначала мы должны обойти сингулярности, затем на козе объехать коллапсы… и еще видимо много чего, что я не знаю… вы друзья? – обратился я к французу.
— Да что ты, конечно нет! – чуть ли не вспыхнул тот, отстранившись. – Я едва знаю Ганса.
Я не ожидал такой реакции и замер в растерянности. Ну, по крайней мере, теперь я знаю, как зовут немца…
— Анри очень расстроен, — примирительно пояснил Ганс, — ведь будущее неумолимо. Нет-нет, не бойся, корпускулярно-волновой дуализм, телепортация квантовых состояний и прочая заумь тут не при чём. Все намного проще. Просто Анри очень ревнив… в некотором смысле:)
Француз раздраженно фыркнул и залопотал что-то на своем языке. Все-таки он невыносимо смешон, бывает же такое… и тут я вспомнил этого актера, на которого он был так похож – де Фюнес или что-то в этом роде, такой же обреченный быть смешным. Ну, неудивительно, если это неприятное свойство влечет за собой различные компенсаторные механизмы в виде аномального эго с сопутствующими обидчивостью, ревностью и прочим.
— Я снова пришел в будущее… — философски констатировал я и заказал… hot grape. Это, видимо, заразно… — Так что же не нравится вашему… э… собеседнику в будущем, которое, очевидно, представляется ему столь ясным, что он так сильно расстраивается, будто бы оно уже наступило?
— Ну, некоторые вещи относительно будущего мы можем сказать наверняка, — вполне серьезно ответил Ганс.
— Приподнявшись, так сказать, над квантовой пеной, правильно? – продолжал подшучивать я.
— Совершенно верно.
— Что же это, к примеру, за вещи, Ганс?
— Вряд ли ты хочешь это узнать, — неожиданно вмешался француз, и резкость его голоса, увы для него, ни в коей мере не снизила его общей смехотворности.
Ну, каким бы он ни был, это не повод диктовать мне – чего я хочу или не хочу, о чем я ему и сообщил во все еще дружелюбном, но уже вполне холодном тоне.
— Анри прав, — совершенно неожиданно для меня подтвердил Ганс. – Скорее всего, это знание вряд ли добавит тебе душевного комфорта.
— Оно отнимет у тебя те его крохи, что еще есть! – снова возопил француз, но вполне естественно, что чем больше они упражнялись в отговаривании меня, тем больше разгорался мой интерес.
В ресторан вошла группа туристов, и я обратил внимание на то, что оба – и Ганс и Анри, метнули туда свои взгляды и явно прислушивались, ожидая каких-то звуков оттуда. Итальянцы. Ганс явно не хотел, чтобы наш разговор легко «читался» посторонними, поэтому итальянская речь его успокоила.
— Откровенно говоря, антиутопии меня мало пугают, — продолжал давить я. – Отчасти потому, что я верю в то, что здравый смысл и трезвость в конечном счете возобладают, ну и отчасти потому, что я родом из России – дикой страны, в которой антиутопии разного пошиба сменяют друг друга с пугающей стабильностью на протяжении сотен лет, и вот смотрите – мир еще не рухнул, люди еще копошатся и на что-то рассчитывают.
— Антиутопии… — покачал головой француз. – Что ты понимаешь в этом… Ты думаешь, это когда мало колбасы и много диктатуры? Что еще может себе представлять русский человек, когда думает о плохом?
— Ну мало ли что может себе представить русский человек, — возразил я довольно беспомощно, не найдя ничего более осмысленного, тем более что он, в общем-то, был видимо прав. Русские уже давно загнали себя в рамки дилеммы «есть колбаса – нет колбасы». Впрочем, дилеммы «есть диктатура – нет диктатуры» им так и не довелось узнать за всю свою короткую историю. Так и хочется добавить «многострадальную», но применим ли термин «страдание» в полном смысле этого слова к убежденным мазохистам? Язык как-то не поворачивается назвать страдальцами тех, кто со злобным мазохистским удовлетворением пытает веками и самих себя, и всех тех, до кого дотягиваются их потные от угара самоистязания руки.
Казалось, Ганса одолевают сомнения. Зная, что я не понимаю по-французски, он вполголоса обсудил что-то с Анри на этом приторном языке, но, похоже, это не разрешило его от сомнений.
— Ладно,… э… извини, я ведь до сих пор не знаю твоего имени, — замялся Ганс.
Вот уж чего я не собирался делать, так это вспоминать свое русское имя. Мне вообще было неохота влезать в эту тему и объяснять, чем мне не нравится Россия, почему я оттуда уехал и ни за что не вернусь в эту зловонную лужу обратно, покуда жива империя, и я даже не был уверен, что иностранцы поймут мое отвращение к русским именам. Хрен знает, может для французского уха имя «Вася» или «Сережа» вполне благозвучны, может их устроит даже «Петя» или «Павлик», но меня просто выворачивает от всего этого, поэтому я и сделал всё, чтобы забыть и своё имя, и тех малоприятных людей, которые мне его дали, и тех, с кем меня сталкивала жизнь. Освободившись таким образом от неприятной определенности, я оказался в ситуации несколько дёрганой неопределённости – ни одно имя, ни один ник не казались мне настолько уместными, чтобы приклеить их к себе. В конце концов до меня дошло, что я занят решением задачи, решать которую вовсе не нужно, и меня вполне устроит, если в одной компании меня называют одним именем, в другой – другим, а на работе – боссом. Единственное неудобство заключалось вот в таких ситуациях, когда спрашивают неожиданно и в лоб. Ну и черт с ним.
— Макс. Меня зовут Макс, — ответил я, напоминая себе, что теперь нужно будет отзываться на это имя.
— Что ты думаешь о публичном сексе, Макс? – с лицом профессора на кафедре поинтересовался Ганс.
— В общем, я за, но пожалуй не сейчас, — сострил я.
— Что ж, уже неплохо. Ну а в исторической перспективе?
— В смысле завтра? Это смотря с кем, опять-таки…
— Искренне надеюсь, что тебе попадется симпатичная девушка, — с невозмутимым видом продолжал Ганс, но…
— Или парень. Ну, я говорю, что если попадется симпатичный парень, меня и это устроит, — решил-таки добить я его, но бесполезно.
— …да, мальчики бывают прекрасны… но я вернусь к перспективе. Как ты думаешь, будут ли такие времена, когда потрахаться вот тут, на лавке или столе, в присутствии других людей, будет столь же естественным, как и сыграть в карты в их присутствии, у всех на виду?
Я хмыкнул.
— Как сыграть в карты…
— Да, вот так непринужденно, два парня и две девушки, раздеваются, целуются, трахаются, а соседи на них посматривают с одобрением, но без особого интереса, интересуются – достаточно ли им места… подходит хозяин гестхауза и предлагаем им подушку… вот если взглянуть на процесс развития сексуальности, на динамику отношения различных обществ к сексу, как ты думаешь, такое будет или нет?
Поразмыслив, я решил, что несмотря на то, какая жопа царит в этой теме непосредственно в данный момент по всему миру, всё-таки в целом динамика несомненно положительна. Откаты и реакции были и будут, мелкие и глубокие, но в целом, конечно, неотвратимо наступят такие времена, когда эта тема перестанет быть табуизированной, и когда к сексу установится здоровое, приязненное отношение без всех этих злобных религиозных догм, без ханжества, стыда и отвращения.
— Значит, будет, — подытожил Ганс, выслушав меня.
— Лет через двести или триста, Ганс, так что это снова нечто из области того, как бороздить космические пространства. Слишком далеко от того, что может нас хоть как-то коснуться, а значит – неинтересно.
— Пусть, — согласился Ганс. – Двести лет, триста… пусть, неважно. Сейчас важно то, что это будет. Это – часть будущего. Несомненного для тебя будущего.
— Для меня, — уточнил я.
— Для тебя.
— И что?
Ганс наклонился вперед, положив руки на стол, обернулся и посмотрел на Анри. Тот махнул рукой, и меня это несколько задело. Чего он тут размахался, собственно? Я кажусь ему дебилом, что ли, с кем и говорить нет смысла? Малоприятный типчик.
— Если это будет точно и несомненно, рано или поздно, то это и есть то будущее, которое неизбежно настанет, минуя все водовороты квантовой пены истории, все сингулярности и коллапсы. И в таком случае почему бы тебе, Макс, не представлять, что это уже есть? Ведь это точно будет.
— Представить? Это я могу. Могу даже представить розового летающего бегемота в балетной пачке, самозабвенно порхающего над озером против часовой стрелки. Толку-то?
— Не просто представить как образ, — продолжил свое Ганс, механически взглянув на озеро так, словно ждал там увидеть моего бегемота, — а поверить в то, что это уже сейчас есть, представив, что ты переместился в будущее, испытав уверенность в том, что… да, лучше вот так – представь, что ты – человек из будущего, прилетел сюда, в прошлое. Чтобы понаблюдать, поизучать… ты ведь уже знаешь, что эффекта бабочки не существует. Ты – из будущего. Тут, в прошлом. В диком, варварском прошлом, где секс стыден.
— Хорошо, я могу и это представить… и что?
— Если ты по-настоящему, хорошо, уверенно это представишь, то не начнешь ли ты чувствовать себя несколько иначе? Не возникает ли какого-то особого оттенка существования?
Ганс был настолько серьезен, и явно так увлечен этой темой, что мне было бы неловко ответить ему равнодушием, не хотелось обидеть его формальным неискренним согласием, поэтому я вздохнул и стал усердно представлять себя человеком из будущего. И похоже, что это удивило обоих моих собеседников. Ганс взглянул на Анри, и его бровь едва заметно поднялась, что я интерпретировал как «вот видишь, мы не зря теряем время», на что тот ответил поджиманием уголка рта, что показалось мне скептическим «поживем-увидим, может он и не идиот конечно, но шансов немного».
Первые минуты две в голову лезла всякая муть вроде малиновых штанов, а потом я как-то разом и легко вообразил себя путешественником во времени, и мог бы поклясться, что в самом деле испытываю в этом уверенность. Увлекательная игра – представлять, что все это в прошлом. Эти люди уже давно состарились и умерли, этого гестхауза уже нет, и по возвращении в свое время я напишу небольшое эссе на тему взаимоотношений людей прошлого.
А затем снова стало трудно. Неожиданно ярко, одно за другим стали вспыхивать воспоминания из раннего детства, которые казались прочно забытыми, напрочь вычеркнутыми из моей жизни. Мы с матерью встречаем отца с вечерней электрички, мне года четыре. Зима, хрустящий под ногами снег. Я играю еловыми веточками, приходит электричка, и толпы одинаковых серо-черных фигур вываливаются из дверей и сумбурно несутся вперед. Где-то мелькает лицо отца и возникает радость – тогда я еще испытывал радость от встречи с ним. Я иду навстречу, огибаю несколько человек и утыкаюсь в знакомое пальто. Людям будущего будет непросто понять – что такое «пальто», и почему это уродство напяливали на себя все люди в СССР, независимо от возраста, социального положения и пола. Такая вещь как «куртка» появилась уже незадолго до перестройки, в основном под влиянием стран социалистического лагеря, откуда эти удивительные штуки поначалу только и привозили редкие счастливчики. Сбоку я вижу авоську с апельсинами, радостно вцепляюсь в нее и иду рядом, обращаясь к отцу, рассказываю что-то о себе. Вдруг – незнакомый голос сверху, я поднимаю голову и смотрю вверх – это не мой отец! Вокруг смеются, подходят мои мать с отцом, мне стыдно, и в следующий миг я с видимым сожалением отцепляюсь от авоськи с апельсинами, и еще в следующий миг – понимание, что у моего отца апельсинов нет, и его лицо, исполненное жалости ко мне, жалости к себе – раздавленные чувства маленького, ничтожного винтика в грандиозной советской машине, перемалывающей в монотонную серую жижу все, что ни зародилось в ее пределах досягаемости. СССР давно нет, а мутно-бурая жижа осталась, гниет и воняет на весь мир.
Я тряхнул головой, Ганс все с той же добродушностью смотрел на меня.
— Что?
— Так… не знаю, что-то навалилось… из детства… воспоминания, люди, запахи, снег… так ярко…
— Хороший признак, — хмыкнул Ганс. – Значит, у тебя получилось. Видишь ли, — притронувшись к моему плечу пояснил он, — мы все сидим в клетке. Мы жестко зафиксированы в настоящем, и это скрывает от нас не только будущее, но и, как ни странно, прошлое. Жесткая фиксация в текущем моменте кастрирует мозг, делает незначимое суперважным и наоборот, превращает нас в марионеток, дергающихся под звуки психопатических завываний. И как только ты освобождаешься, как только вылезаешь из клетки, так сразу много чего может возникнуть, в том числе и яркие детские воспоминания.
— Интересно… пожалуй, я буду иногда «летать в прошлое». И насчет того, что ты говорил о суперважности незначимого, это я тоже заметил – как будто в эквалайзере все рычаги синхронно съехали далеко вниз. Дурацкий смех той дебелой итальянки – он заметно менее раздражал, и вдруг перестал… Он словно больше не касался меня, это… как бы не мой мир, он меня не трогает, не задевает. Потрясающее чувство, надо сказать!
Ганс кивнул. И еще я заметил, что Анри перестал смотреть на меня, как на недочеловека. Впрочем, он не стал от этого менее смешным.
— Приятное чувство свободы? – спросил Ганс.
— Да. Приятное. Непривязанность. Прикольный психологический эксперимент. В какие игры вы еще играете? Хотя нет, постой. Ты ведь что-то говорил… перед тем, как вот все эти упражнения с прошлым…
— Я говорил, что если будущее настанет, то почему бы не быть в нем прямо сейчас, сразу?
Анри снова беспокойно задергал своими шарнирами, а я понял, что тут может быть что-то интересное.
— Если тебе нравится это состояние, — медленно произнес Ганс, — почему не быть в нем постоянно?
— То есть… постоянно воспринимать настоящее как прошлое?
— Ну да. Почему нет? Для этого, в общем, нет нужды в фантазиях. Все проще. Ты ведь в самом деле можешь стать, понимаешь, стать человеком будущего.
Я бы принял это за очередной психологический эксперимент, если бы не специфическое напряжение, появившееся в глазах у обоих. Эта тема явно много значила для них. Слишком много, чтобы быть психологическим экспериментом.
— Стань им, и не надо будет фантазировать и балансировать на неустойчивых гранях уверенностей.
— Что значит «стань», Ганс?
— Стань человеком, который мог бы жить в будущем. Представь себе, что современный человек… вот та итальянка, например, перенеслась в будущее, о котором мы говорим. Что с ней будет?
— Инфаркт. Мгновенно. – Рассмеялся я.
— Вот именно. Потому что она – дитя нашего времени.
— Я понял идею, Ганс. Ты предлагаешь внедрить в свое сознание прямо сейчас то… те концепции, то видение мира, те отношения, которые мы предполагаем у людей будущего. Было бы любопытно.
— Боюсь, что речь идет не о любопытстве, Макс, — вкрадчиво заметил Ганс. Речь о твоей эволюции. Речь о проникновении за пределы, по умолчанию положенные нам природой, и речь о тех явлениях, которые всему этому сопутствуют, среди которых…
— Ганс!
Резкий голос Анри ворвался в монолог, словно ошпарив нас обоих.
— Я отдаю должное твоему искреннему увлечению этим молодым человеком, — продолжал Анри тем же резким, дребезжащим голосом, — но прошу тебя…
— Да, да, — перебил его Ганс, демонстративно подняв обе руки в положение сдающегося человека. — Давай, Макс, остановимся на вопросах эволюции. Коротко говоря, ты не делаешь второго шага, пока не сделаешь первого. Тут, конечно, вопрос такой… вопрос вкуса, вопрос личных увлечений, ну то есть, надо ли это тебе…
Он вопросительно замолчал, но я уже был в ловушке. Хотели они того оба или нет, но заинтриговали они меня уже до крайности.
— Давай, Ганс, выкладывай, — пристал я к нему, и чтобы у него не возникло позывов к тому, чтобы сплавить меня, достал свой блокнот, демонстративно провел черту под группой корейских слов и приготовился конспектировать. Заодно я подозвал официанта и заказал ему жареную сосиску.
— Сосиска конкистадора! – насмешливо провозгласил Анри, но я как-то перестал на него обижаться, почувствовав отсутствие злости в его инсинуациях.
— Я не уверен, что у меня получится это внятно разъяснить, — начал Ганс, — но есть разница между тем, что ты разделяешь некие ценности, причисляя себя к людям других взглядов, и тем, что ты именно являешься человеком другого сорта. М-да… как-то не очень… — он почесал голову и встряхнулся. – Давай иначе. Допустим сейчас кто-нибудь скажет, что секс должен быть только в браке, только ночью, только в миссионерской позе и только для целей зачатия. Тебя это возмутит?
— Конечно.
— Тебе захочется встрять, спорить?
— Да, захочется, но вряд ли буду. Бесполезно связываться.
— И какой отсюда мы можем сделать вывод, к какому времени ты принадлежишь?
— К какому-то будущему, — подытожил я.
Совершенно наоборот, — в тон мне произнес Ганс, любуясь произведенным эффектом. – Ну это же очевидно, Макс, представь себе, что кто-то при тебе выскажет мнение, согласно которому хрустальный небосвод можно разбить, а демонов лучше изгонять скипидаром, а не водкой. Ты будешь как-то эмоционально вовлечен в это?
Я усмехнулся.
— Вот. Не будешь. Ну удивишься, ну посмеешься, покрутишь пальцем у виска, но не бросишься доказывать что-то, опровергая основы демонологии. Просто это уже не твое. Это прошлое. Прошлое для той эпохи, к которой ты принадлежишь. Согласен?
Не согласится было трудно.
— Сделать шаг вперед во времени, в социальной эволюции, — почти чеканным голосом декламировал Ганс, как на лекции — это значит в такой степени впитать убеждения будущей эпохи…
— Я понял, теперь понял, — перебил я его. – Очень интересно, правда.
Я помолчал, еще раз перебирая в уме услышанное, пока не наткнулся на воспоминание о втором шаге.
— Второй шаг… ты говорил…
— Да. Не сделав первого шага, ты не сделаешь второй. Ты, собственно, даже не поймешь, каким он, этот второй шаг, может быть.
— Не понимаю…
Ганс потянулся всем телом, и мышцы снова забегали под его футболкой. Чрезвычайно сильный человек. Даже необычайно сильный. До сих пор это как-то ускользало от внимания, насколько он силен.
— Ты каждый день штангу качаешь, что ли?
— Что? А… — он как-то замялся, — это все глюонная плазма…
— Что??
— Да шучу, шучу… — Ганс рассмеялся, но тему с мышцами все же замял.
— Дай я, — неожиданно сунулся Анри, чем, по правде говоря, отнюдь не привел меня в восторг. – Вот первый шаг, это, скажем, свобода секса, хотя разумеется не существует изолированного акта осознания, который мы назвали бы первым шагом, ведь это связанные совокупности, когда одно невозможно без другого, на определенном историческом масштабе, конечно, — затараторил он в почти безэмоциональном тоне, я бы сказал – даже без знаков препинания, которые мне пришлось восстанавливать в уме самостоятельно.
— Э…, — попробовал вставить я, чтобы унять фонтан.
— Ладно, ладно, — шарниры заработали, конечности стали перемещаться, — первый шаг, хорошо, а дальше что? Ну что?
— Дальше… это после свободы секса?
— Да, что дальше?
— Ну, — я развел руками, — возможны варианты.
— Возможна болтовня, а не варианты, — выпалил он. – Варианты будут возможны только тогда, когда ты сможешь это пе-ре-жи-вать. Тогда и варианты ты будешь переживать как нечто, идущее непосредственно из тебя, из тебя-как-переживающее-существо, а не как тупой арифмометр.
— Арифмометры не бывают тупыми, — вырвалось у меня.
— Зато люди бывают, — не очень туманным намеком парировал он.
Колючая сколопендра этот француз…
— Еще раз, молодой человек…
По какой-то причине он избегал называть меня по имени, то ли в силу назидательного пыла, почувствовал, жир в бороде, что имя я выдумал. Почему «жир в бороде»?.. я ослабил хватку сосредоточенности и мысль пошла в свободное хаотическое плавание ассоциаций. Цербер! Точно. Ведь прямо как у Данте: «и не было спокойной части», точно, про него, человека на шарнирах. Осталось только, нагнувшись, простереть пясти, и, взяв земли два полных кулака, метнуть известно куда…
— Ты вообще меня слушаешь..? – донеслось до меня и я вынырнул из ада.
— Да, да… и что же? Я слушаю. Надо пе-ре-жи-вать, — передразнил я его, — а не быть арифмометром.
— Сменить комплекс убеждений, это не просто сделать косметическую операцию. Это – глубокий тектонический сдвиг в самых основах, в глубинных формированиях личности, в уверенностях, вслед за чем следует определенная динамика психических процессов, откуда и вытекают варианты, понятно?
Откровенно говоря, ему недоставало умения раскрывать тему, но я в общем понял, что и подтвердил кивком. Довольный, Анри демонстративно отдулся и откинулся на подушки.
— Поэтому второго шага и не будет, пока не будет первого, — бросил он оттуда, как из окопа. – Поэтому эволюция не происходит. Нет ее. А значит, ты не высовываешь носа из клетки, хотя и позволяешь себе снобистски презирать ее.
Я принял упрек. Не хотелось влезать в дрязги, тем более, что в общем он снова был прав.
— Только все это имеет весьма мало значения само по себе, — каким-то апокалиптичным тоном произнес Ганс.
— Что же имеет весьма много значения? — поинтересовался я.
— Значение имеет то, что мы собираем багрянец, — отрезал он.
Анри издал нечленораздельный звук, схватился обеими руками за голову и, к моему величайшему удивлению, так и долбанулся головой о стол. Все-таки, если человек псих, то это заметно… Подведя этот итог, я снова взглянул на Ганса. Лицо его было словно высечено в мраморе, и мне подумалось, что яблоко от лошади падает недалеко.